Источник http://www.e-reading.club/bookreader.php/1054601/Pamyati_Petra_Alekseevicha_Kropotkina.html
Памяти Петра Алексеевича Кропоткина
Всероссийский Общественный Комитет по увековечению памяти П. А. Кропоткина
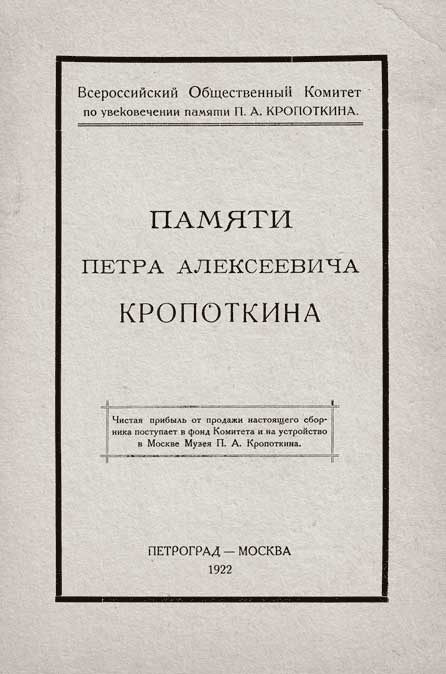
Памяти Петра Алексеевича Кропоткина
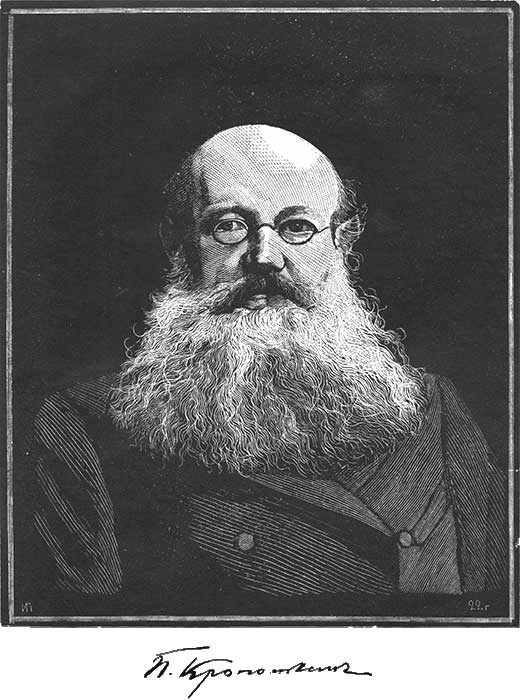
Предисловие
Настоящий сборник, посвященный памяти П. А. Кропоткина, является результатом сотрудничества «Всероссийского Общественного Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина» и Редакции журнала «Былое», чем и об’ясняется общность большей части содержания сборника и № 17 «Былое». Редакция последнего предоставила со своей стороны преимущественно ценный архивный материал, а Комитет — статьи и воспоминания, вместе с фактическим материалом, относящимся к скорбным дням болезни и кончины П. А. и очерк истории возникновения Всероссийского Общественного Комитета и Петроградского Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина.
Наиболее ценный вклад сделан Почетной Председательницей В. О. Комитета С. Г. Кропоткиной, давшей для сборника драгоценные строки самого П. А. «Идеалы в революции» из неоконченной рукописи 1918 г.
По условиям момента сборник, конечно, не является таким, каким было бы желательно видеть первый сборник памяти П. А. Кропоткина. Однако, Комитет надеется, что при наступлении более благоприятных условий для издательства, он сможет приступить к изданию второго сборника, в котором постарается обрисовать многогранную личность П. А-ча более полно и всесторонне.
Чистая прибыль от настоящего сборника поступит в фонд Комитета на развитие его деятельности и устройство музея имени П. А. Кропоткина в Москве, в доме, где П. А. родился.
Исполнительное Бюро Всероссийского Общественного Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина.
Москва 15/XI 21 года.
Скорбные дни
Последние бюллетени о ходе болезни Петра Алексеевича уже подготовляли всех его друзей и единомышленников к неизбежному роковому исходу.
Но, тем не менее, никто как-то не хотел верить в возможность и близость трагического конца… Все надеялись, что, несмотря на свои преклонные годы, П. А. поборет и на этот раз злой недуг и снова скоро станет здоровым и бодрым… Этой надежде не суждено было оправдаться…
После некоторого улучшения, болезнь снова усилилась и во вторник, 8-го февраля, в 3 часа 10 минут утра сердце великого революционера и гуманиста перестало работать…
Известие о смерти П. А-ча получилось в Москве во вторник на рассвете, и уже рано утром печальная весть облетела всю Москву, глубоко взволновав не только близких друзей и единомышленников покойного П. А-ча, но и широкие круги Москвы.
Действительно, в лице П. А-ча Россия и русский народ потеряли не только великого борца за лучшее будущее человечество, но и неподкупную революционную совесть. П. А. долгие десятилетия стойко держался на своем революционном посту, указывая молодым поколениям революционеров на их задачи, и на их обязанности и долг перед народом… И вот этого патриарха русской революции не стало… Не стало ярко горевшего маяка, указывавшего людям путь в светлое царство свободы, правды и братства, — в царство, где не будет больше «ни тяжелой кровавой борьбы, ни позорных цепей, ни гнетущей нужды и рабов»…
…………………
Как только в Москве получилось известие о смерти П. А-ча, тотчас же была образована из представителей московских анархических организаций и некоторых друзей покойного комиссия по организации похорон.
Во вторник же, 8-го февраля, эта комиссия отправила в Европу и по России радио с извещением о смерти П. А-ча.
Первое радио было составлено в следующих выражениях:
Всем, Всем, Всем,
Анархисты России, потрясенные горем, извещают революционеров и трудящихся всего мира о смерти 8 февраля в три часа утра в городе Дмитрове великого революционного вождя, всю жизнь отдавшего неустанной борьбе за полное освобождение всех угнетенных — Петра Алексеевича Кропоткина.
Да будет этот день на все времена в памяти всех находящихся под гнетом власти и капитала, днем общей международной скорби и революционного протеста против насилия.
…………………
Второе радио было адресовано анархистам всего мира; оно было послано в следующей редакции:
Товарищи! Братья!
8-го февраля в три часа утра в городе Дмитрове почил Петр Алексеевич Кропоткин, наш общий любимый учитель, десятки лет боровшийся неустанно за полное освобождение угнетенных всего мира.
Долгие годы он окрылял наши надежды, пробуждал и укреплял нашу веру в революционное дело, направлял наши шаги. Дело его — наше дело. Оно живет в нас.
Сохраним же в нашей памяти на все времена его великий подвиг и скорбный день его кончины. Пусть всегда, пока жив еще гнет капитала и власти, будет он днем нашей общей скорби и революционного протеста против насилия.
Так самая смерть его будет неугасимым революционным маяком в сознании трудящихся и угнетенных всего мира.
Анархические организации.
…………………
Третье радио было послано анархической и синдикалистской прессе Франции, Англии, Германии, Италии, Швейцарии, Норвегии, Испании и Дании. В нем говорилось:
Петр Кропоткин тихо скончался десять минут четвертого, во вторник утром, 8–го февраля, после трехнедельной болезни воспалением легких. Смерть произошла благодаря слабости сердца. Он сохранил полное сознание, бодрость и веселость почти до самого конца. Об‘единенные анархические организации России взяли на себя все необходимые мероприятия, и предполагают открыть музей имени Кропоткина. Похороны состоятся в воскресенье. Сообщите всей анархической и синдикалистской прессе.
Анархические организации.
…………………
Кроме этих радио Комиссия составила следующее воззвание к трудящимся города Москвы:
Трудящимся Москвы.
Мир потрясен скорбью великой утраты — умер Петр Алексеевич Кропоткин, неустанный боец за угнетенных.
Рожденный в барских палатах, где уже в детские годы он с возмущением и гневом наблюдал истязания крепостных и всю мерзость помещичьего строя, — он отверг все привиллегии богатых классов и отдал все свои силы, весь блеск своего дарования, весь пыл своей революционной натуры борьбе за освобождение трудящихся.
В своей исключительной личности, сочетавшей редкие душевные качества с неиссякаемой энергией, Кропоткин воплощал революционный Интернационал.
Любивший всем пылом своей души Россию, где впервые он понес свою проповедь освобождения в народные низы, — Кропоткин, по истине, не знал отечества. Его проповедь освобождения от оков двойного ига — власти и капитала — не изменялась в зависимости от границ. Великим бунтарем он оставался и в Англии, и во Франции, и в Швейцарии, — всюду, куда в среду обездоленных достигал его бодрый революционный призыв.
Священная ненависть к угнетателям всех видов, к эксплуататорам капиталистам, тюремщикам и палачам всех видов и мастей переплеталась в нем с неиссякаемой любовью к угнетенному человечеству.
Кропоткин не принадлежал к числу тех, кто откладывает нравственное самосовершенствование до наступления нового строя.
Он был суров в своих требованиях к революционерам.
Вся жизнь его — неувядаемый пример для всех поколений трудящихся.
Он звал к революционному насилию, чтобы свергнуть неравенство, гнет и насилие, — все, что создается государством и капиталом.
И они будут свергнуты вскоре, если его жизнь останется неугасаемым маяком для борцов всего мира.
Да здравствует светлая память о великом бойце!
Долой гнет государства и капитала!
Комиссия Объединенных Анархических Организаций.
…………………
Во вторник же из Москвы в Дмитров было послано несколько представителей анархических организаций для дежурства при теле покойного.
Вся среда прошла в подготовлениях к перевозке тела П. А-ча из Дмитрова в Москву.
В четверг, 10-го февраля, в 9 час. 15 мин. утра из Москвы в Дмитров был отправлен специальный поезд за телом почившего.
С этим поездом выехали делегации Московских Анархических Групп, представители от профессиональных союзов и некоторых рабочих организаций.
Прибыв в Дмитров, делегации, с свернутыми знаменами и венками, направились к дому, где жил последние три года П. А. и где ему суждено было окончить свое земное существование.
В это время почти все население Дмитрова собралось на улицу, на которой находится дом с квартирой П. А-ча. За три года жизни П. А-ча в Дмитрове очень многие дмитровцы познакомились с П. А. и полюбили его. Часто к П. А-чу приходили крестьяне из окрестных деревень, чтобы посоветоваться с ним, многие просили его написать им какое-либо прошение, или походатайствовать перед властью в каком-либо деле. Петр Алексеевич, если он видел, что дело просителя право, никогда не отказывал в просьбе и сам лично составлял прошения в разные советские учреждения.
К 12 часам дня к дому, где скончался П. А., прибыли делегации разных Дмитровских учреждений и организаций, а также учащиеся и местный гарнизон. По просьбе родных П. А-ча и Комиссии по организации похорон красноармейцы были без оружия.
К часу дня вся улица была почти сплошь усеяна красными и черными знаменами, на которых пестрели надписи: «Великому мыслителю — анархисту и революционеру». — «Великому вождю Социализма — П. А. Кропоткину». «Вечная память борцу за угнетенных» и т. д.
В 1 ч. 45 м. дня близкие друзья, ученики и последователи П. А. вынесли на руках гроб с телом покойного и процессия под звуки похоронного марша медленно направились к станции ж. д. Все время следования процессии звуки оркестра сменялись пением хора.
На полдороге процессия была остановлена большой толпой детей, учеников местных Дмитровских школ. Дети выразили желание проститься с «добрым дедушкой», который со многими из них разговаривал и беседовал при посещении им школ или на улице. Желание детей было исполнено; гроб с телом был опущен и дети в последний раз взглянули на того, кто всю свою жизнь отдал на служение человечеству…
В 2 часа 30 минут процессия прибыла на станцию. Здесь, перед тем как поставить гроб с телом в вагон, был произнесен целый ряд речей представителями анархических организаций, Дмитровских профессиональных союзов, Дмитровского Уездного Совета, Местного Районного Комитета Коммунистической Партии и Союза Молодежи. После речей гроб был поставлен в вагон и покрыт венками и знаменами.
В 4 часа дня под звуки похоронного марша поезд тихо отошел от станции Дмитров…
В 5 час. 30 мин. вечера поезд прибыл в Москву на Савеловский вокзал. Здесь его прибытия ожидали уже многочисленные делегации и огромная толпа народа.
По выносе гроба с телом П. А-ча из вагона, его поместили на катафалк и процессия направилась к «Дому Союзов» (бывшее Благородное Собрание).
Около семи часов вечера шествие прибыло к «Дому Союзов» и гроб с телом почившего был поставлен на особом возвышении в большом Колонном зале.
По странной случайности судьбы в этом самом зале 70 лет тому назад началась карьера П. А-ча. Здесь в декабре 1850 г. на балу император Николай первый заметил в толпе других детей восьмилетнего Петю Кропоткина, велел привести его к себе и тут же на балу назначил его кандидатом в Пажи.
Но, потомок древнего княжеского рода не сделался послушным и верным слугою царя, но стал на сторону народа и царскому дворцу предпочел лачугу рабочего. И вот теперь, семьдесят лет спустя, после долгой жизни, полной борьбы и лишений, после многих годов тюремного заключения, великий революционер снова попал волей судьбы в Колонную Залу, теперь уже не Благородного Собрания, а дома Рабочих Союзов…
В пятницу и субботу Дом Союзов был открыт для публики. Десятки тысяч людей побывали в эти два дня в Колонном Зале, чтобы сказать последнее прости великому борцу. Около гроба все время стоял почетный караул из друзей покойного и представителей анархических организаций…
Похороны были назначены на воскресенье 13-го февраля.
В воскресенье уже с самого раннего утра к Дому Союзов, несмотря на холод, стали собираться многочисленные делегации от разных рабочих, общественно-научных, культурно-просветительных и партийных организаций.
К десяти часам утра в Колонном Зале, около гроба, собрались родственники и друзья почившего, а также представители от разных делегаций.
В 12 часов дня при благоговейной тишине собравшихся раздались звуки музыки. Оркестр исполнил патетическую симфонию Чайковского «Памяти героя», а затем было исполнено трио Чайковского, посвященное памяти великого художника. После пения «вечной памяти», гроб с телом был поднят на руки ближайшими друзьями П. А-ча и анархистами, только что выпущенными из тюрьмы на несколько часов для участия в похоронах П. А-ча.
Под звуки похоронного марша и пения «вечной памяти» процессия направилась по Моховой и Волхонке в Новодевичий монастырь, где, по желанию семьи П. А-ча, решено было похоронить прах покойного. Процессия растянулась на большое расстояние и всех участвующих в ней, по приблизительному подсчету, было не менее ста тысяч человек.
На Пречистенке (ныне ул. Кропоткина) к процессии присоединилась делегация от толстовских организаций, неся на высоком древке портрет Льва Толстого. У Музея Толстого, фасад которого был украшен траурной полосой и бюстом Толстого, процессия остановилась и хор несколько раз пропел «вечную память».
Вплоть до самого кладбища хор и оркестр попеременно исполняли революционные гимны и марши…
В день похорон Комиссией анархических организаций по устройству похорон П. А. Кропоткина была выпущена однодневная газета в количестве 40 000 экземпляров. Вследствие того, что Государственное Издательство в последний момент перед печатанием отпустило ограниченное количество бумаги, газета вышла в половинном размере и многие статьи и воспоминания о П. А-че не могли быть помещены…[1]
Около четырех часов дня процессия прибыла в Новодевичий монастырь. Могила была приготовлена на новом кладбище. Первоначально тело П. А-ча предполагали похоронить на старом кладбище, рядом с фамильным склепом князей Кропоткиных (П. А. еще при жизни завещал, чтобы его ни в коем случае не клали в склеп). Но, рядом со склепом не оказалось ни одного аршина свободной земли и поэтому могилу для П. А-ча пришлось вырыть на новом кладбище.
Перед опусканием гроба в могилу представителями разных учреждений и организаций были произнесены речи. В числе ораторов были представители от Московских и Петроградских анархических групп, от объединенного народничества, от партии социалистов-революционеров, от партии социал-демократов (меньшевиков), от толстовских организаций, от Всерос. Центр. Исполн. Комитета Советов, от Московского Совета, от Центр. Комитета Коммунистической партии (большевиков), от американских, шведских и норвежских анархистов, от Исполнительного Комитета III Интернационала, от Голландской секции Ком. Интернационала, от Московского студенчества и от анархических организаций Украины.
Все выступавшие ораторы, несмотря на принадлежность к разным партиям, отметили единогласно неизмеримость утраты и признавали, что в лице П. А-ча Россия и человечество потеряли одного из лучших своих представителей, честного революционера и пламенного борца за лучшее будущее…
После речей под пение «вечной памяти» гроб с телом П. А-ча тихо опустили в могилу… глухо раздался стук мерзлой земли о крышку гроба… Вскоре свежий могильный холм буквально утопал в зелени многочисленных венков… Участники похорон стали расходиться, унося в своей душе незабвенный образ того, кто всю свою долгую жизнь неутомимо боролся против всякого насилия и гнета, откуда бы они ни исходили…
В следующие дни на могиле Петра Алексеевича перебывали тысячи народа; могилу посетили масса учащихся и молодежи.
Н. Лебедев.
К истории образования Всероссийского Общественного Комитета памяти П. А. Кропоткина
Через несколько дней после смерти Петра Алексеевича среди его друзей и единомышленников естественным образом возникла мысль об увековечении памяти великого гуманиста и революционера. С этою целью решено было приступить к организации в Москве, родном городе П. А-ча, особого дома — музея имени П. Кропоткина.
Московский Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов в лице своего президиума пошел на встречу этому желанию и на своем заседании 15-го февраля 1921 г. постановил передать дом № 26 по Штатному переулку (ныне пер. Кропоткина), в котором родился П. А. под устройство музея.
Чтобы организовать в означенном доме музей имени Кропоткина, решено было образовать особый Комитет по увековечению памяти П. А. Кропоткина.
Первоначально вопрос о создании Комитета был внесен на рассмотрение во Временную Комиссию по устройству похорон П. А. Кропоткина, в состав которой входили представители некоторых анархических организаций города Москвы.
Комиссия наметила кандидатов в члены будущего комитета и при ликвидации своей деятельности сделала 17 го февраля на собрании членов некоторых анархических организаций г. Москвы свой доклад по этому поводу.
Собрание постановило образовать комитет из восьми членов с участием жены покойного П. А-ча, С. Г. Кропоткиной и дочери его А. П. Кропоткиной.
Уже на первых же заседаниях этого временного Комитета среди его членов, при обсуждении вопроса о составе Комитета, о его задачах и целях, возникли разногласия, которые, к сожалению, на несколько месяцев затормозили работу Комитета по организации Музея и вообще дело увековечения памяти П. А-ча.
Перед временным Комитетом прежде всего стал также вопрос о взаимоотношениях с другими организациями по вековечению памяти П. А-ча, обратившимися к временному Комитету с предложением об’единения деятельности в достижении общей цели увековечения памяти П. А-ча.
Неожиданное решение этого вопроса во временном Комитете в сторону узко-фракционного направления его деятельности с определенным отмежеванием от всяких иных организаций и групп, ставящих целью увековечение памяти П. А-ча, весьма быстро обратили временный Комитет в узко-замкнутую группу, что и послужило причиной выхода из состава Комитета его председательницы С. Г. Кропоткиной и одного из его членов.
Вышедшие члены Временного Комитета, совместно с представителями некоторых анархических и общественных организаций, образовали в июне месяце текущего года новую инициативную группу по созданию широкого общественного Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина. В состав этой группы вошли следующие лица: С. Г. Кропоткина, В. Н. Фигнер, П. А. Пальчинский, Н. К. Лебедев, Н. К. Муравьев. А. А. Карелин и А. М. Атабекян.
Инициативная группа выработала 20-го июня обращение к организациям и группам и разослала его многим ученым, научным, анархическим и общественным организациям г. Москвы.
К сожалению, по случаю летнего сезона и от’езда некоторых членов инициативной группы из Москвы, первое организационное собрание Комитета удалось созвать только 18-го сентября. Эти собрание сочло себя правомочным образовать «Всероссийский Общественный Комитет по увековечению памяти П. А. Кропоткина», при чем было постановлено, что в этот Комитет могут входить все анархические, общественные, научные и научно-технические организации и группы, которые этого пожелают и задачи и деятельность которых не противоречат основным идеям и принципам покойного Петра Алексеевича. Комитет делится на секции, разрабатывающие каждая ту область, в какой данная секция считает себя наиболее компетентной.
Ввиду того, что многие общественные и научные организации не получили своевременно обращение инициативной группы и не могли поэтому прислать своих делегатов в Комитет, на первом общем собрании решено было пока образовать только две секции: анархическую и научную. Впоследствии при пополнении Комитета новыми членами предполагается выделение еще двух секций: общественно-экономической и литературно-художественной.
Собрание приняло проект положения о Комитете, печатаемый ниже и постановило возможно шире оповестить в России и за границей об образовании «Всероссийского Общественного Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина», с тем, чтобы привлечь широкие круги желающих оказать свое моральное и материальное содействие Комитету.
Второе общее собрание Комитета состоялось 6-го ноября. На этом собрании были произведены выборы Исполнительного Бюро Комитета, в состав которого вошли, как почетная председательница Комитета, С. Г. Кропоткина, председательница В. Н. Фигнер, секретарь Н. К. Лебедев и как члены Исполнительного Бюро — П. А. Пальчинский, А. А. Карелин и Н. К. Муравьев.
Собрание постановило войти с ходатайством в Московский Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов о скорейшем очищении дома № 26 по переулку Кропоткина (бывш. Штатный), в котором родился П. А. Кропоткин, и который Президиум Московского Совета постановил передать для устройства в нем Музея П. А. Кропоткина.
В этом доме Комитет предполагает устроить, если это будет возможно, ко дню годовщины смерти П. А-ча временную выставку, посвященную жизни и деятельности П. А-ча.
Инициативная группа по увековечению памяти П. А. Кропоткина.
Москва, 20/VI 1921 г.
8-го февраля текущего года скончался Петр Алексеевич Кропоткин, неутомимый борец за освобождение человечества от всякого гнета и насилия, один из основоположников теории анархизма, выдающийся ученый и замечательный по своим душевным качествам человек. Он был провозвестником нового общества, основанного на свободе и справедливости, и его утрата особенно тяжела в настоящий момент, когда совершается коренное переустройство всей русской жизни.
Петр Алексеевич был искателем новых путей почти во всех областях человеческой деятельности и всю свою долгую жизнь он посвятил служению человечеству и науке. Мыслитель и моралист, он до последних дней своей жизни работал над вопросами нравственности и над созданием книги об этике.
На обязанности всех, кому дороги идеи и заветы Петра Алексеевича, лежит большая задача всестороннего изучения всего того громадного духовного наследства, которое оставил Петр Алексеевич человечеству. Мы, его современники, должны достойным образом увековечить его память и сохранить все связанное с его деятельностью и творчеством.
Вследствии этого, группа друзей, единомышленников и почитателей покойного Петра Алексеевича, в качестве инициативной группы, решила приступить в Москве к образованию комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина.
Так как Петр Алексеевич был не только анархист, но и всесторонний ученый исследователь, инициативная группа считает, что комитет, для наилучшего освещения и изучения жизни и творчества Петра Алексеевича должен состоять из нескольких секций, из которых каждая самостоятельно разрабатывает ту или иную сторону деятельности и творчества Петра Алексеевича, в которой данная секция является наиболее компетентной. Все секции об’единяются между собою для согласования общей деятельности на федеративных началах. Для проведения в жизнь решений и постановлений Комитета и секций избирается Исполнительное Бюро, в которое входят, как душеприказчики покойного Петра Алексеевича, его жена Софья Григорьевна и его дочь Александра Петровна Кропоткины.
Одной из ближайших задач организуемого Комитета должно быть устройство в Москве, в доме, где родился Петр Алексеевич, «Музея П. А. Кропоткина», посвященного жизни и творчеству Петра Алексеевича.
Извещая Вас об этом, инициативная группа обращается к Вам с предложением принять участие в организационном Комитете по увековечению памяти П. А. Кропоткина.
Инициативная группа надеется, что все, кому дороги память Петра Алексеевича и его идеи, горячо откликнутся на ее призыв и, оставив в стороне те или иные частичные расхождения в своих взглядах, присоединят свои усилия, чтобы достойным образом увековечить память великого русского человека, революционера, ученого и гуманиста.
О согласии Вашем на участие в Комитете и об имени, адресе и телефоне Вашего представителя в Комитете просим сообщить по одному из следующих адресов:
С. Г. Кропоткиной, Леонтьевский пер., № 26, кв. 39.
Н. К. Лебедеву, Б. Афанасьевский пер., № 7, кв. 7.
П. А. Пальчинскому, Спиридоновка, № 12, кв. 4.
С. Кропоткина. В. Фигнер. П. Лебедев. П. Пальчинский. А. Карелин. А. Атабекян. Н. Муравьев.
Положение о Всероссийском Общественном Комитете по увековечению памяти П. А. Кропоткина
Статья первая. —
В целях увековечения памяти П. А. Кропоткина и всестороннего освещения его жизни, деятельности и учения учреждается «Всероссийский Общественный Комитет по увековечению памяти П. А. Кропоткина».
Местопребывание комитета гор. Москва, как место, где родился П. А. Кропоткин.
Статья вторая — Задачи Комитета.
1) Комитет организует в Москве, в доме, где родился П. А., «Музей П. А. Кропоткина».
В этом музее должно быть собрано все, что касается жизни, деятельности и творчества П. А-ча. Его произведения на всех языках, и вся литература как о нем самом, так и о его произведениях.
Кроме этого, в Музее должны быть собраны все предметы, имеющие то или иное отношение к П. А-чу, и должны быть представлены в картинах, рисунках, фотографиях и т. п. вся научная и революционно-социальная деятельность П. А-ча.
2) Комитет организует лекции, доклады и беседы, посвященные той или другой стороне творчества и деятельности П. А-ча.
3) Комитет издает по мере возможности: а) непериодические сборники и др. издания, посвященные памяти П. А. Кропоткина и его творчеству и б) ежемесячный бюллетень Комитета на четырех языках — русском, французском, английском и немецком, в котором помещаются отчеты о деятельности Комитета, хроника событий, связанных с именем П. А-ча, и статьи и очерки, освещающие ту или иную сторону жизни и творчества П. А-ча.
Статья третья — Состав Комитета.
Комитет образуется из представителей разных учреждений, организаций и групп, которые пожелают принять участие в Комитете, и задачи и деятельность которых не противоречит основным принципам и идеям П. А. Кропоткина.
Каждое из учреждений, организаций и групп, может послать в Комитет не больше как одного представителя, независимо от числа своих членов.
Комитет может приглашать в свой состав персонально тех или иных лиц, участие которых в Комитете будет признано полезным.
Точно так же Комитет имеет право кооптировать и тех лиц из числа родственников и друзей покойного П. А-ча, участие которых в Комитете было бы желательным.
Статья четвертая — Структура Комитета.
Для того, чтобы наилучшим образом осветить и представить все стороны научной и революционно-социальной деятельности П. А. Комитет, по мере своего развития, делится на четыре секции: анархическую, естественно-научную и географическую, общественно-экономическую и литературно-художественную.
В данный момент образуются пока две секции: анархическая и научная.
Все секции Комитета вполне автономны и независимы каждая в своей области и об‘единяются между собою для координации общей деятельности на федеративных началах.
В своей деятельности секции руководствуются исключительно основной целью Комитета: освещение личности и творчества П. А. и увековечение его памяти.
Статья пятая — Исполнительное Бюро.
Для проведения в жизнь решений и постановлений Комитета и его секций Комитет избирает Временное Исполнительное Бюро. Впредь до образования всех четырех секций в Исполнительное Бюро входят все семь членов инициативной группы и по два представителя от анархической и научной секции.
Исполнительное Бюро выделяет из своей среды Музейную Комиссию, в ведении которой должно находиться дело организации Музея Кропоткина.
Председатель и товарищ председателя Исполнит. Бюро являются в то же время председателем и тов. председателя всего Комитета и избираются общим собранием Комитета.
В Исполнит. Бюро Комитета входят как душеприказчики покойного П. А его жена Софья Григорьевна Кропоткина и его дочь А. П. Кропоткина.
Статья шестая — Ревизионная Комиссия.
Комитет избирает из своей среды Ревизионную Комиссию в составе трех человек.
Статья седьмая — Средства Комитета.
Средства Комитета составляются: а) из добровольных взносов тех организаций и групп, представители которых входят в Комитет, б) из добровольных взносов всех лиц и организаций, пожелавших сделать таковые, на условиях, приемлемых для Комитета и в) из доходов от издания сборников, устройства лекций и т. д.
К истории образования Петроградского Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина
Одновременно с первыми шагами по организации Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина, сделанными в Москве указанными выше группами, подобные же шаги были сделаны и в Петрограде друзьями, единомышленниками и почитателями П. А. Кропоткина. Некоторые общественные организации уже при получении известий о кончине П. А. немедленно отозвались на это соответствующими письмами семье покойного П. А. и резолюциями с указанием на необходимость организации во Всероссийском масштабе по меньшей мере чествования и увековечения памяти П. А. Так как в это время в Петрограде скульптором академиком И. Я. Гинцбургом заканчивался бюст П. А., начатый им незадолго до смерти П. А. после специальной поездки И. Я. Гинцбурга в Дмитров для работы с натуры, то, например, Русское Техническое Общество немедленно заказало для себя бюст, который ныне уже готов в гипсе. Небольшая инициативная группа в составе М. В. Новорусского, Д. С Зернова, П. А. Щеголева, П. А. Пальчинского обратилась к ряду учреждений и организаций с предложением организовать безотлагательно в Петрограде по примеру Москвы Комитет по увековечению памяти П. А. Кропоткина. На заседании в доме ученых 1-го июня 1921 г. прибыли А. П. Карпинский, президент Академии Наук, А. Н. Рябинин, директор Геологического Комитета, Д. И. Мушкетов, директор Горного Института П. А. Пальчинский, председатель Русского Технического Общества Д. С. Зернов, ректор Технологического Института и председатель Ассоциации Инженеров, М. В. Новорусский. Зам. председателя Общества Изучения Революции А. П. Герасимов, председатель Отделения Географии, Метеорологии и Физики Русского Географического Общества и Я. С. Эдельштейн, профессор Географического Института.
На собрании выяснилось, что часть присутствующих явились уже снабженные мандатами от своих учреждений, тогда как по летнему времени другие учреждения не могли дать своим представителям полномочий на основе выборов. В виду наличия представителей и мандатов от шести учреждений и сообщений остальных лиц о внесении соответствующих предложений в разные общества, и ученые и иные учреждения, собрание постановило считать Комитет по увековечению памяти П. А. Кропоткина образовавшимся в составе учреждений, давших полномочия своим представителям или сделавшим соответствующие заявления без присылки представителей. Таким образом Петроградский Комитет образовался в составе М. В. Новорусского от О-ва изучения Революции, Д. С. Зернова от Ассоциации Инженеров, П. А. Пальчинского от Русского Технического Общества, П. А. Щеголева от редакции журнала «Былого», С. Ф. Малявкина от Института Изучений «Поверхность и Недра» и В. И. Баумана от Народного Университета имени Л. И. Лутугина. Избрав М. В. Новорусского для несения обязанностей председателя до производства выборов в более многолюдном заседании Комитета, собрание поручило ему составить от имени Комитета обращение к различным научным и общественным организациям и учреждениям Петрограда с приглашением к присоединению к Комитету. Тут же был решен и вопрос о принятии предложения редактора «Былое» П. Е. Щеголева о совместном с редакцией «Былое» издании сборника, посвященного памяти П. А. Кропоткина. Таким сборником должна была явиться очередная 17-я книжка «Былого», пополненная матерьялами Комитета и выпускаемая в двух различных обложках с некоторым различием в тексте.
Воззвание Комитета, ниже помещаемое, было послано по адресу 60 научных, учебных и общественных учреждений, из которых до 1 ноября откликнулись с назначением своих представителей следующие:
Российская Академия Наук, Технологический Институт, Горный Институт, Геологический Комитет, Институт изучений «Поверхность и Недра», Российское Минералогическое Общество, Географический Институт, Центральный Географический Музей, Русское Техническое Общество, Ассоциация инженеров, Музей Революции, Русское Библиографическое Общество, Народный Университет имени Лутугина, Редакция журнала «Былое» и издательство «Голос Труда».
Воззвание Петроградского Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина.
8 го февраля 1921 г. в г. Дмитрове, Московской губ. ушел от нас П. А. Кропоткин. Россия и все человечество лишилось одного из величайших своих сынов.
Пламенный борец за свободу, замечательный ученый, блестящий писатель, изумительный по душевным свойствам человек, Петр Алексеевич заслуживает со стороны благодарного человечества благоговейного сохранения всего, что связано с его именем. Деятельность его как ученого, революционера, мыслителя и моралиста и притом человека, оставившего светлую память во всех знавших его, должна быть освещена всесторонне, а сокровища его гения и обаятельной личности раскрыты на пользу потомства.
В Москве образовался Организационный Комитет по увековечению памяти П. А. при участии его жены и дочери. Он уже приступил к делу по созданию в Москве, где родился и похоронен Кропоткин, музея его имени в том доме, в котором П. А. провел первые годы своего детства.
Так как увековечение памяти П. А. имеет международный характер и значение, то Организационный Комитет полагает, что окончательные формы увековечения памяти должны быть выработаны Международным Комитетом, который будет состоять из представителей различных национальных комитетов, созданных для этой цели в разных странах.
В России, которая имеет право гордиться именем Кропоткина, предполагается создать Всероссийский Комитет и отделения его в разных крупных городах, из коих Петрограду должно принадлежать первое место. Здесь Кропоткин учился и здесь же провел первые годы своей научной и революционной деятельности. Старый режим вырвал живую личность П. А-ча на заре его жизни из среды ученых Петрограда. Теперь долгом их чести является возвратить его историческое имя Петрограду и сделать его столь же знакомым и популярным, как и другие имена, которыми по праву гордится Россия.
Первые шаги к образованию Петроградского Комитета уже сделаны. Для участия в нем намечено, начиная от Академии Наук, около 60-ти научных учреждений и обществ, деятельность которых так или иначе соприкасается с кругом интересов Кропоткина. И представители некоторых из них, в качестве организационного ядра, настоящим приглашают Совет учреждения уполномочить одного из своей среды представителем в состав Петроградского Комитета по увековечению памяти Кропоткина.
Ближайшее собрание для продолжения организационной работы предполагается в середине июля по повесткам. Извещение об избранном лице и его адресе надлежит послать в Комитет по адресу Историко-Революционного Архива (бывш. Сенат, пл. Декабристов).
От Русского Технического Общества П. И. Пальчинский.
От О-ва изучения русского освободительного движения М. В. Новорусский.
От Ассоциации Инженеров Д. С. Зернов.
От Географического Института Я. С. Эдельштейн.
От Института Изучений «Поверхность и Недра» С. Ф. Малявкин.
От редакции «Былое» П. Е. Щеголев.
От Всероссийского Общественного Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина
Всероссийский Общественный Комитет по увековечению памяти П. А. Кропоткина обращается с призывом ко всем учреждениям и лицам, у которых имеются письма покойного Петра Алексеевича Кропоткина, а также какие-либо материалы (воспоминания, заметки, рисунки, фотографии и т. п.), относящиеся к его жизни и личности, представить эти материалы в подлинниках или точных копиях в распоряжение Комитета.
Вместе с этим Комитет просит присылать ему все некрологи, статьи, заметки из газет и журналов, отчеты о речах, собраниях, вечерах, лекциях и концертах, устраивавшихся по поводу Петра Алексеевича и его смерти.
Все полученные материалы и документы пойдут в организуемый в Москве Музей П. А. Кропоткина. Наиболее важные из полученных материалов будут опубликованы в намеченных к изданию Сборниках памяти П. А. Кропоткина или в «Бюллетене Всерос. Общ. Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина», а также в предполагаемой к изданию однодневной газете, приуроченной ко дню годовщины со дня смерти П. А-ча.
Всем лицам, нежелающим временно по тем или иным причинам оглашать присылаемые ими воспоминания, письма и другие материалы, Комитет гарантирует неприкосновенность последних.
Все материалы и документы просят посылать или на имя вдовы покойного П. А. Кропоткина, С. Г. Кропоткиной, гор. Дмитров, Моск. губ. или же на имя секретаря Всерос. Обществ Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина, Н. К. Лебедева, Москва, Арбат, Большой Афанасьевск. пер., д. 7, кв. 7.
Исполнительное Бюро Всероссийского Общественного Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина.
Комитет просит все редакции газет и журналов перепечатать настоящее обращение.
…………………
Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?
(Записка П. А. Кропоткина 1873 г.).
От редакции. Народническое течение освободительного движения 60-ых годов перешло в начале 70-ых годов в решительную революционную фазу. Начавшемуся с весны 1874 г. стихийному хождению в народ предшествовала короткая, но напряженная теоретическая работа по выработке и формулировке революционного миросозерцания и соответственных ему практических путей деятельности для осуществления идеала социального переворота. В этой интересной и глубокой работе весьма видная роль принадлежала П. А. Кропоткину, который, вернувшись из-за границы, где он впитал в себя бакунистическое течение Интернационала, в 1872 году весною примкнул к кружку чайковцев и явился в нем представителем анархического боевого течения. Для кружка чайковцев, не имевшего резко очерченной революционной программы, он и составил «Записку», которая известна в литературе под заглавием «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?».
Резюме этой записки вошло в обвинительный акт по знаменитому процессу 193-х, как доказательство наличности у обвиняемых «ближайших задач революционной деятельности» в виде «уничтожения существующего порядка вещей посредством революции», с отнесением «на второй план вопроса о форме нового строя жизни».
Самая «Записка» была по обыску найдена у Кропоткина и приложена к делу в качестве вещественного доказательства. У него же взят по обыску и другой аналогичный документ — программа революционной пропаганды, повидимому, составленная, судя по ее содержанию, также Кропоткиным.
Вот текст этой программы, которая является и дополнением, и развитием положений «Записки»:
«Несмотря на усиливающиеся гонения правительства, несмотря на новые аресты и новые репрессивные статьи закона, число молодых людей, отправляющихся в народ, постепенно возрастает. Последовательно, от военных заговоров, совершенно чуждых социального элемента (1825 г.), наша протестующая молодежь перешла к республиканско-социалистическим разговорам промеж себя, затем к поверхностным сношениям с заинтересованною в перевороте частью народа и, наконец, к более прямому, более постоянному сношению с этим народом. Теперь следует ожидать сношений еще более тесных, за которыми не замедлят последовать агитаторы из самой народной среды, а, наконец, и вооруженный мятеж. Но, ввиду этого усиливающегося шествия в народ, становятся более, чем когда либо, необходимыми подготовка, осмотрительность и сноровка со стороны революционеров. Что касается до первой, то мы не знаем лучшей школы, чем та, которую предложил автор статьи: „Револ. из прав. среды“. Одного желанья приносить добро, одной энергии, одного ума, одной выносливости и т. п. — еще слишком мало для революционера; необходимо, кроме того, еще близкое ознакомление с народом, усвоение с его нуждами, воззрениями, способом мышления. Человек, желающий быть революционером, еще не есть революционер, и необходимо, чтобы он подготовился. Подготовка же должна состоять в чтении книг, содействующих расширению знания народных нужд, недостатков современного быта, прошедшего и т. п., а также книг, дисциплинирующих мышление, и в изучении какого-либо ремесла и в личном (на первое время) общем ознакомлении с жизнью народа. В этот период революционер должен быть нем, как рыба, чтобы не попасться понапрасну, должен только присматриваться, слушать… Только когда он сочтет себя достаточно подготовленным, должен впервые раскрыть свои уста для пропаганды. Как ни тяжело скрывать свои чувства и мысли, но лучше молчать в первый период, чем говорить невпопад. Во 2-ой стадии революционер должен разорвать свой дворянский паспорт окончательно, навсегда, сделаться крестьянином, мастеровым, фабричным и — пропагандировать. При этом, как доказывает западно-европейская практика, пропаганда может быть действительна только в специальном кругу. Неразвитый крестьянин или рабочий не поймет общественных идей о социализме, равенстве и солидарности. Его не тронут за живое (особенно в первое время) нужды и страдания его же собратьев, не тожественные с его собственными. Оставляя в стороне исключения, — вы не двинете ни на шаг фабричного толками о малом наделе крестьян какой-то Полтавской или Тульской губернии. Революционер может рассчитывать на успех только тогда, если будет выдвигать на первый план местные интересы. На Западе лучший практическийагитатор есть тот, который становится во главе работников данных кам.-уг. копей, данной ассоциации каменщиков, данной ассоциации переплетчиков и т. п. и главным образом (и только несколько одухотворяя свою пропаганду общими идеями) преследует именно эти местные, частные интересы. Из этого следует, что навсегда оставшийся в народе революционер должен поселиться в какой-нибудь данной местности и примкнуть к какому-нибудь данному ремеслу. Не имея иных средств к жизни, он, пожалуй, даже и сам получит, вследствие этого, в придачу к своим человеколюбивым стремлениям могучий импульс эгоистического интереса.
Это общая сторона. Кроме того, мне хотелось бы сделать 2–3 мелких замечания. Неоднократные беседы с простолюдинами убедили меня, что непрактично в высшей степени задевать их религиозные верования. Для крестьянина страшен и, по меньшей мере, непривлекателен тот, кто говорит, что Бога нет, что душа не бессмертна и т. п. Если иной из них сам и переварил такую личность, то другие испугают его тем, что он водится с греховодниками. Революционер должен не только стать вполне и навсегда простолюдином в отношении экономическом, он должен сделаться простолюдином и во всяких других культурных отношениях, т.-е. в одежде (красные рубахи и т. п. режут глаза крестьянам: они так одеваются только по праздникам), в домашних привычках и в религиозном отношении: он должен ходить в церковь там, где не бабы только, но и мужики ходят; должен поститься по средам и пятницам и в посты, — обычай, везде соблюдаемый и мужиками. Кроме того, непрактично задевание „царя“. Надо всячески обходить этот вопрос, обрушиваясь всею тяжестью на правительство и господ, — слова, которые на всей Руси каждому известны. Можно задевать „царя“ только в тех случаях, когда ход беседы неожиданно приводит к необходимости или выгородить его (и след. косвенно восхвалить), или отнести его к той же… народных; но и тогда весьма полезна сдержанность.
Вредного в таком неупоминании о царе нет ровно ничего. Слети только правительство и господа, и царь сам… Его и с…»
Для правительственных сфер, чрезвычайно встревоженных развитием революционного движения в стране, «Записка» Кропоткина, равно как и программа революционной пропаганды, явились материалом высокой важности и ценности. Таинственный враг, неожиданно бросивший с весны 1874 года в народные массы целую армию грозных для самодержавия борцов, раскрывал здесь, — в этих материалах, — свои карты, свою программу и организацию, исповедовал свою веру и рисовал свои идеалы. За этими документами стояло большое движение, силу которого хорошо учло и знало III Отделение. Опасность для государственного строя вырастала во вполне конкретную, — и как всегда, правительство должно было озаботиться принятием мер предупреждения, пресечения и уничтожения революции и революционеров.
«Записка» была доведена до сведения императора Александра II-го, и, по докладу ген. Потапова, повелено было вопрос о революционной пропаганде обсудить в комитете министров.
В комитет министров поступило из III Отделения целое досье в виде печатной брошюры, в состав которой вошли «Записка» Кропоткина и программа революционной пропаганды, а также копия письма гр. Палена к старшим председателям и прокурорам судебных палат. Эти материалы сопровождались «Извещением» канцелярии III Отделения «о возникновении и направлении дела» и послужили предметом обсуждения в комитете министров в течение трех заседаний — 18, 26 марта и 1 апреля 1875 года. Мы воспроизводим «Записку» по этому официальному тексту.
Любопытные суждения в комитете, равно как и интересные материалы и данные, представленные в процессе обсуждения этого вопроса, будут освещены на страницах этой же книги. Пока ограничиваемся этими указаниями, чтобы оттенить историческую ценность печатаемой ниже «Записки» Кропоткина.
Текст ее был препровожден в 1920 году редакцией «Былого» П. А. Кропоткину, жившему в Дмитрове, и престарелый революционный деятель живо заинтересовался документом из эпохи своей молодой работы в России. Он испещрил своими заметками, поправками и пояснениями «Записку», которую ему пришлось пересматривать уже в свете новых умопостроений, результатов долговременной жизни и работы. Просмотра своего П. А., к сожалению, не закончил, но рукопись эта хранится среди всего духовного наследства Кропоткина.
Вслед за «Запиской» мы печатаем статью Кропоткина «Идеал в революции». Она писалась в Дмитрове в 1918 году и также не была закончена. По плану эта статья должна была завершить и зафиксировать весь идейный круг развития взглядов Кропоткина, в связи с современной русской действительностью и социальным в ней переворотом…
Ред.
…………………
Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?
Я полагаю, что должны.
Во-1-х, потому, что в идеале мы можем выразить наши надежды, стремления, цели, независимо от практических ограничений, независимо от степени осуществления, которой мы достигнем, а эта степень осуществления определится чисто внешними причинами.
Во-2-х, потому, что в идеале может выразиться, на сколько мы заражены старыми предразсудками и тенденциями. Если некоторые бытовые стороны покажутся нам так святы, что мы не посмеем их коснуться даже при разборе идеальном, то насколько же велика будет наша смелость при практическом уничтожении всяких бытовых особенностей? Другими словами, хотя умственная смелость вовсе не есть ручательство за смелость практическую, но умственная мыслебоязнь есть уже наверно мерило мыслебоязни практической.
Говоря об определении идеала, мы, конечно, имеем в виду определение только 4–5 крупных черт этого идеала. Все остальное должно быть неумолимым осуществлением в жизни этих основных начал. Поэтому оно не может быть предметом обсуждения теперь. Формы осуществления не могут быть проведены научным путем. Практически они могут быть выведены только путем многократным практического обсуждения незадолго до и во все время осуществления, на месте, в общине, в артели, а не теперь, при зарождении дела.
Под идеалом мы разумеем такой строй общества, прогресс которого основан не на борьбе людей, с людьми, а людей с природою.
Нет никакого сомнения в том, что между различными социалистами, самых разнообразных оттенков, существует довольно полное согласие в их идеалах, если взять их в самой общей форме. Общественный быт, которого осуществление они желали бы, в более или менее близком будущем, вообще довольно одинаков, и различия между их идеалами скорее происходят не от коренных различий в идеале, а от того, что одни сосредоточивают все свое внимание на таком идеале, который может, по их мнению, осуществиться в ближайшем будущем, другие — на идеале, по мнению первых, более отдаленном, — чем от коренных различий в самом идеале.
В самом деле, все теперешние социалисты стремятся к возможно более полному равенству условий развития отдельных личностей и обществ.
Все они желали бы осуществления такого строя, чтобы каждый имел одинаковую возможность заработать себе средства к жизни личным трудом, т.-е. чтобы каждый имел бы одинаковое право на пользование теми орудиями труда и сырьем, без которых никакой труд невозможен, чтобы каждый был поставлен в необходимость зарабатывать себе средства к жизни личным трудом, чтобы распределение полезных занятий в обществе было такое, при котором невозможно образование класса, занятого пожизненно, а тем более наследственно, исключительно привилегированным трудом, т.-е. трудом более приятным, менее тяжелым и менее продолжительным, но дающим право на одинаковое благосостояние с прочими, или даже больше: чтобы каждый имел одинаковую возможность, наравне со всеми остальными, получить то теоретическое образование, которое ныне составляет удел лишь немногих, чтобы отношения отдельной личности ко всем остальным были бы таковы, при которых, пользуясь наибольшею суммою благ от этих отношений, она несла вместе с тем наименьшее количество стеснений ее личной свободы и ее личного развития.
Словом, коротко выражая все эти положения, нынешние социалисты стремятся к равенству:
в правах на труд,
в труде (в обязанности трудиться),
в способах образования,
в общественных правах и обязанностях, при наибольшем возможном просторе для развития индивидуальных особенностей,
в способностях, безвредных для общества.
Такова программа громадного большинства, едва ли не всех социалистов нашего времени. Даже те, которые, повидимому, проповедуют идеал, совершенно иной, те, которые, напр., проповедуют в конечном идеале государственный коммунизм или иерархический строй и т. п., в конце концов, желают того же, и если они сосредоточивают сильную власть в руках или правящего меньшинства, или выборных старцев и, таким образом, приносят в жертву, напр., личную самобытность, то отнюдь не потому, чтобы они не придавали ей никакой цены или считали ее вредною, но только потому, что они не находят возможным осуществление такого строя, при котором все четыре формы равенства осуществлялись в одинаковой мере, и жертвуют одною из форм для достижения прочих. При этом никто из живых последователей этих ученых социалистов и не думает, чтобы какая бы то ни было общественная форма могла закаменеть и не подлежать дальнейшему развитию.
Мы рассмотрим теперь все вышеупомянутые различные формы и условия равенства порознь и посмотрим, насколько они совместимы друг с другом, и насколько необходимо совместное осуществление всех их для прочности каждого, при чем практические меры, кажущиеся теперь полезными, для осуществления каждого из этих идеалов рассмотрим особо.
Первое условие равенства ясно само по себе и менее всего может быть предметом спора.
Чтобы каждый член общества имел возможность зарабатывать себе средства к жизни своим трудом, не закабаляясь ради этого никому, никакой отдельной личности или компании, или артели, он, очевидно, должен иметь возможность во всякое время взять ту лопату, которою он намерен копать, тот хлопок, из которого он намерен спрясть нитку или соткать ткань, тот хлеб, одежду, квартиру, где он должен жить прежде, чем изготовить вещь, имеющую меновую ценность для общества, то помещение, где он будет работать. Очевидно, что если в былые времена производство было так просто, что для всего этого не требовалось большого накопления прежних продуктов своего труда, если всякий, работавший хотя бы только орудиями труда, имевшимися в его семье, над теми сырыми продуктами, которые он брал бесплатно у природы, мог производить полезные меновые ценности, то ныне, и в этом состоит прогресс общества, предварительное накопление продуктов труда, для создания орудия производства и заготовления сырья должно быть так велико, что не может быть делом ни отдельной личности, ни отдельной группы личностей. Ясно, следовательно, что если желательно, чтобы личность, принимаясь за работу, не должна была закабалять себя, не должна была уступать часть своего труда, своих сил и своей независимости, ни постоянно, ни временно, отдельным личностям, произволу которых всегда принадлежало бы определить, как велика должна быть эта часть, то необходимо, чтобы ни орудия труда (орудия, машины и фабрики), ни места возделывания сырых продуктов (земля), ни запасенные ранее сырые продукты, ни средства для запасания их и передвижения в данное место (пути сообщения, складочные магазины и проч.), ни средства существования во время работы (запасы средств, пропитание и дома) не находились в руках отдельных личностей.
Таким образом, мы приходим к отрицанию в будущем строе, осуществления которого мы желаем, всякой личной собственности, всякой собственности товарищества на паях или акциях, артелей и т. п.
Те писатели прежнего времени, которые приходили к подобному заключению, не видели другого исхода, как передача всего общественного капитала государству, т.-е. сильной организации, представляющей собою интересы общества и заведывающей всеми делами, какие касаются всего общества в совокупности.
Ей предоставлялось обеспечить за каждым членом общества возможность получать нужные ему орудия труда и проч.; ей же предоставлялось распределить между членами общества выработанные ими продукты.
Но именно поэтому блестящие сны последователей этих учений и не находили себе достаточно приверженцев среди тех, которые должны были осуществить эти сны в действительности. В самом идеале этих учений осуществилась только одна сторона жизни, — экономическая. Те же, которые привыкли мыслить конкретными образами, очень хорошо понимали, что какие бы сочетания условий ни были измышлены для того, чтобы такое правительство выразило собою образ мыслей большинства, как бы ни был подвижен, изменчив и удобоизменяем его состав, но всегда тот кружок личностей, в пользу которых общество отказывается от своих прав, будет властью, отдельною от общества, стремящегося расширить свое влияние, свое вмешательство в дела каждой отдельной личности, каждой группы личностей, и чем шире круг действия этого правительства, тем более вероятности, что правительство перестанет быть выражением выгод и желаний большинства.
Поэтому, как массы, так и многие отдельные мыслители издавна поняли, что передача такой самой существенной основы жизни общества в руки какого бы то ни было выборного правительства была бы источником самых существенных неудобств, если не просто самоубийством общества.
От этого сознания самый естественный переход был к тому, что весь капитал, накопленный в том или другом виде предыдущими поколениями, должен стать достижением всех, всего общества, которое само и должно быть полновластным его распорядителем.
Ближайшую, непосредственную форму выражения этого идеала составляет:
«Признание всего наличного капитала, разрабатываемого или нет, собственностью всех членов той территориальной единицы (группы, областей, страны), где совершается социальный переворот.
Признание всего разрабатываемого общественного капитала (возделываемой земли, лесов, работающихся руд, фабрик, действующих или строющихся железных дорог, жилых домов и т. п.), отданным в пользование (на некоторый срок) тем лицам, которые на нем прилагают свой труд.
Принятие нужных мер для того, чтобы уравнение невыгодных условий, в которых находятся отдельные работающие группы, совершилось в различных мелких территориальных единицах (города, губернии) путем взаимного согласования этих групп, не устраняя возможности дальнейших перераспределений для уравнения количества труда, который у них признается нужным».
Громадное различие такого положения дел от современного очевидно из того, что теперь горсть личностей, завладевая чужим трудом, имеет право расходовать его бесконтрольно для удовлетворения всех потребностей и, таким образом, трудом всех оплачивает производства или поступки, нужные ей одной. Это зло устраняется.
Но не раз было высказано, что такой порядок дел, который мы имеем в виду в таком идеале, имеет за собою другой недостаток. Говорилось, что потребности большинства вовсе не суть потребности прогресса человеческого общества; что всегда прогресс в обществе шел таким путем, что некоторое меньшинство, случайно попавшее в особо благоприятные условия, развивалось более всех остальных, открывало и вещало миру новые истины, которые воспринимались несколькими подготовленными личностями. Хотя мы сомневаемся, по нижеизложенным причинам, чтобы таков был в большинстве случаев ход прогресса в обществе и чтобы он всегда должен был быть таким, но, допустив даже, что таков бывает единственно-возможный ход прогресса в данном направлении, хотя бы в каком-нибудь редком, хотя бы даже исключительном случае, мы, конечно, должны подумать, не может ли предлагаемая нами в идеале классификация труда задушить этот проблеск прогресса?
Понятно, однако, что все рассуждавшие таким образом исходили из современного положения дел и воображали себе идеальную оценку труда в нынешнем обществе, при нынешней удушающей обстановке мастерских, при разъедающем силы непосильном труде, при той невозможной продолжительности машинального труда, которая необходима теперь для того, чтобы иметь хотя кров и корку хлеба. Но очевидно, что та классификация занятий, о которой мы говорим, возможна только в обществе, подвергавшемся переделке, о которой говорилось по поводу первого условия равенства. И для такого общества немыслимо отсутствие довольно продолжительного досуга. Если некоторые экономисты и говорили, что раздел всего теперешнего дохода нетрудящейся части общества поровну между всеми членами общества повысил бы средний заработок каждого члена только на 5 су (8 копеек), то опять-таки эти экономисты брали условие невозможное, т.-е. воображали себе дележку, невозможную в теперешнем обществе, происходящею в теперешнем обществе при сохранении теперешних условий и форм производства. Теперь, конечно, невозможно даже определить, сколько времени пришлось бы каждому члену общества трудиться над производством предметов, необходимых для доставления всем членам общества комфорта, равного комфорту людей нижних частей теперешнего среднего класса. Но можно прямо сказать, что, если теперь каждый работник содержит средним числом (в Германии и во Франции, кроме себя, еще 3-х, а во Франции почти четырех человек, из которых только один есть член рабочей семьи, а остальные 2-е, почти 3-е, суть паразиты их семьи, то, имея подобных, содержат в лучше организованном обществе только 1-го, много 2-х человек, т. е. всего вместе с ним самим от 2 до 3 человек, вместо 4-х 5-ти челов.; он может работать уже вдвое менее, т.-е. 5½ час. вместо 11 час. в день, — всего 33 часа в неделю и вместе с тем абсолютно нисколько не уменьшать своего благосостояния. Вспомнив далее все непроизводительные расходы обществ, обусловливаемые, главным образом, их общественною неурядицею (войска, войны, тюрьмы и суды, тяжбы и проч. и проч.); вспомнив, далее, какие несметные количества труда тратятся на производство предметов, не служащих для увеличения производительных сил народа, — мы, конечно, поймем, как велик был бы досуг, который оставался бы в справедливо-устроившемся обществе, за удовлетворением даже того разумного комфорта, о котором теперь не мечтают даже баре средней руки; мы поймем тогда, насколько был ближе к правде Оуэн, утверждавший, что для этого и для многого другого достаточно было бы 3-часовой работы всех членов общества.
Вот почему (допустив даже прогрессивное влияние меньшинства) мы полагаем, что отдельные личности имели бы совершенную возможность для выработки всех тех прогрессивных идей, которые отдельные личности могут выработать, для распространения их, для изобретения всех тех механических орудий, которые могли бы облегчить человечеству удовлетворение его потребностей, для изобретения и усовершенствования всех тех наслаждений, которые способствуют дальнейшему развитию человека. Подготовленность почвы в обществе, которое состояло бы из членов, имевших возможность с детства получать такую подготовку, составляющую теперь удел лишь редких счастливцев, способность этого общества к восприятию всего хорошего с устранением теперешних помех, возможность…[2] хорошее с общественно-полезным и дурное с общественно-вредным, наконец, наплыв в область творчества, ремесленного, научного и художественного всей ныне бездеятельной массы, — вот залог прогресса в будущем обществе, не только не меньшего, чем теперь, но в 10, 100 раз большего.
Поэтому мы считаем наше старое условие необходимым условием равенства и ближайшим. Но вместе с тем и довольно полным шагом к достижению этой части идеала равенства мы считаем:
«Признание общественной меновой стоимости только за такими предметами, которые будут признаны нужными обществу большинством данной группы, данного союза групп».
Все сказанное сейчас приводит нас также к убеждению в осуществимости и практической целесообразности такого распорядка полезных занятий, при котором не существует…[3] личностей, занятых исключительно привилегированным трудом, напр., трудом умственным, управлением некоторыми делами фабрики, завода, общины и т. д.
В том, что существование такого класса людей есть проявление неравенства, само по себе вовсе нежелательное, очевидно, не может быть никакого сомнения. Сомнения и возражения могут быть только в том смысле, что: 1) существование такого класса необходимо для дальнейшего развития самого общества; 2) с точки зрения необходимости, по мнению многих, разделения труда. Мы сказали выше, что не находим ни справедливым, ни полезным оплачивать общественным трудом предметы, полезные или нужные только меньшинству. Мы сказали также, что для производства этих предметов достаточно будет досуга по окончании работ, необходимых для удовлетворения необходимых потребностей, требуемых обществом, и что возможные размеры досуга вместе с увеличением подготовленности почвы и увеличением числа людей, имеющих возможность употребить досуг на всевозможные занятия, содействующие прогрессу общества, увеличение силы общественного мнения, суть достаточный залог против застоя культуры и цивилизации общества.
Теперь мы идем далее. Мы говорим, что среди занятий, которые будут признаны нужными данною группою личностей, могут быть занятия, так сказать, привилегированные. На первых же порах, всякой общине потребуется школьный учитель, медик, бухгалтер, через несколько времени потребуется профессор, ученый техник, пожалуй, финансист и т. д. Спрашивается, не выгоднее ли будет для самой общины, чтобы школьный учитель занимался только обучением детей в течение тех 7–8 часов, которые придется каждому члену общества употребить на общественные занятия, не употребляясь ни на какие другие работы, или же он должен, вместе с тем, ежедневно или поочередно отправлять другие обязанности, так, напр., по черной работе, напр., колоть дрова для школы (если бы это понадобилось), мыть или натирать полы, топить печи, мести школьный двор…[4], учебные пособия и т. д. и т. д. Должен ли профессор, в таковой общине, где таковой потребовался, заниматься только чтением, в указанные 7–8 час., лекций, а вместе с тем заниматься в мастерской изготовлением физических приборов вместо с слесарями и механиками, заниматься очисткою нечистот в университетском здании и т. д. Мы полагаем, что да, что он должен отправлять черные работы. Так как образование класса аристократии чистого труда рядом с аристократией черного труда вовсе не желательно, то весь вопрос, следовательно, только в том, насколько выгодно для общества такое распределение занятий, при котором отдельные личности не специализируются так, как теперь. Дарвин, занимающийся вывозом нечистот, потому только кажется людям абсурдом, что они не в состоянии отрешиться от представлений цельности, взятых из современного общества, только потому, что они забывают, что для того, чтобы могла образоваться такая личность, как Дарвин, опередившая в умственном развитии свое общество на целое столетие, нужен был подбор в течение многих лет особо-благоприятных, исключительных условий, только потому, наконец, что они допускают (конечно, бездоказательно), что если бы Дарвин и…[5] не высказали в 1859 г. гипотезы естественного подбора, то человечество продолжало бы не знать ее еще долгие века и что нет такого сочетания общественных условий, при котором эта гипотеза могла бы быть высказана не только в 1859 г., во даже несравненно раньше, только потому, наконец, что они считают единственным или наиболее выгодным ходом прогресса в человечестве появление у отдельных личностей таких воззрений, которые опережают массу общества на целые столетия, если не тысячелетия. Все эти воззрения и представления, однако, в высшей степени неверны.
В силу всего сказанного мы считаем совершенно необходимым на первых же порах:
Признание ненужности класса, пользующегося привилегированным родом занятий, другими словами:
Признание обязательности лучшего мускульного труда для всех членов общества, рядом с признанием в выборе этих занятий полной свободы каждой личности, если ты докажешь свою способность к избираемому роду занятий.
Осуществление этих двух условий равенства и переход их в действительную жизнь обеспечиваются осуществлением четвертого условия — равенства в образовании, не только возможности равенства в образовании, но действительно фактического.
Безусловно отрицая, чтобы наиболее выгодное прогрессивное движение в обществе совершилось путем развития меньшинства, получающего образование несравненно большее, чем остальное общество, мы вовсе не хотим на общественные средства выделять такое меньшинство; поэтому нам ненужно ни университетов, ни академий, содержимых на общественные средства, если ими не пользуется каждый без исключения член общества. Если отдельные личности, захотевшие употребить свои досуги на дальнейшую разработку своих умственных способностей, будут учреждать высшие учебные заведения, ученые общества, консерватории и т. п., — пусть учреждают они их на продукты своего досуга, пусть посещают их в часы досуга, в то время, как другие члены общества будут тратить эти часы на заботы или увеселения, но общество, не желающее накладывать руки на те условия равенства, которых добилось своими усилиями, не должно уделять на эти учреждения ни единой единицы общественного труда.
Мы не хотим, чтобы само образование с детского возраста стремилось разбить людей на управляемых и управляющих, из которых первые знакомы по преимуществу с черною работою труда, необходимого для обыденной жизни, а вторые — преимущественно с приемами управления и с так называемыми высшими проявлениями человеческого ума. Поэтому нам вовсе не нужно университетов, которые создадут докторов, когда большинство трудящихся на этом же поприще будет обречено на исполнение обязанностей сторожа, сиделки или фельдшера; адвокатов, когда большинство может быть только писцами; профессоров — рядом со сторожами; кабинетных ученых, техников — рядом с чернорабочими.
Повторяя формулировку Прудона, мы скажем: если морское училище не есть само судно с его равноправными матросами, получающее теоретическое образование, то оно создает офицеров над матросами, а не матросов; если техническое училище не есть сама фабрика, сама мастерская-школа, то она создает мастеров и управляющих, а не рабочих и т. д. Нам не нужно этих привилегированных учреждений, нам не нужно ни университетов, ни технических училищ, ни морских академий, созданных для немногих; нам нужна больница, фабрика, химическое производство, судно, производящая мастерская, школа для работающих, которая, ставши уделом, с невообразимой быстротой перешагнет уровень теперешних университетов и академий. Устранив весь ненужный балласт бесполезных знаний, изобретя ускоренные приемы образования (которые всегда являются лишь тогда, когда является на них неотложный спрос; Америка может отчасти служить тому реальным доказательством), школа подготовит здоровых работников, одинаково способных как к дальнейшему умственному, так и к дальнейшему физическому труду.
Сколько часов в каждом возрасте должен будет ученик заниматься производством (не игрой в производстве, как в нынешних технических и реальных училищах) и сколько часов теоретическими занятиями, и до которого возраста последнее будет обязательно, — решит тогда каждая община, каждый округ независимо, и, конечно, это решение будет не случайное, не теперешнее, а на основании разумных начал.
Мы должны сказать, наконец, несколько слов об обязательности образования, которая всегда была предметом стольких споров. Мы полагаем, что источник всех споров был тот, что возражавшие против этой обязательности всегда имели в виду современное государство со всеми его атрибутами. Но очевидно, что мы можем говорить об обязательности образования не в нынешнем обществе с его теперешним государством, а о будущем обществе с теми учреждениями, которые будут выполнять те из полезных отправлений (или, вернее, могущих быть полезными), которые теперь отправляет государство.
Поэтому мы, конечно, считаем, что в будущем обществе образование, до известных пределов, определяемых самим обществом, будет и должно быть обязательным.
В силу сказанного, мы считаем необходимым для осуществления этой четвертой стороны идеала равенства:
«Признание необходимости закрыть все университеты, академии и проч. высшие учебные заведения и открыть повсеместно на общественные средства школу-мастерскую, которая в очень скором времени объемлет преподавания, конечно, разовьется до уровня теперешних университетов и превзойдет их».
Установить согласие по 5 пункту, политического равенства, всегда было труднее для всех социальных школ; несколько десятков лет научные представители социализма не находили даже возможным осуществить свои идеалы иначе, как при посредстве сильного централизованного государства, сильного правительства, которое устанавливало бы, регулировало бы все общественные отношения, вмешивалось бы во все мелочи частной жизни людей. Особенно разделились эти понятия среди писателей Франции и Германии. Но оттого и естественно отвращение как во многих массах, так и в весьма искренних социалистах от прочих справедливых начал коммунизма.
Понятно, однако, что все это есть следствие простого недоразумения. Избавленный от вечно грозящего представления всемогущего правительства, коммунизм стал быстро распространяться даже в Западной Европе в измененной и ограниченной форме, под именем коллективизма.
С другой стороны, многие лучшие мыслители нынешнего столетия стремились определить литературным путем, каким сочетанием условий может быть достигнут такой порядок дел, при котором отдельной личности обеспечивается наибольшая свобода действий и развития, при наименьших стеснениях? Понятно, однако, что, покуда эти мыслители задавались мыслью выработать только чисто политические отношения, они не могли дойти ни до каких практических результатов. Но с перенесением вопроса в область экономических отношений, он решается гораздо проще.
Самая идеальная форма, до которой дорабатывались защитники государственной идеи, есть федерально-республиканская, с такою самобытностью общины, при которой ей приходится решать независимо как можно больше дел, с возможно большею независимостью округа, как у штата; такую форму мы видим в Соед. Штат. С. Ам. Необходимым дополнением этой формы считается в Европе то, что некоторые законы отдаются на голосование всего народа, всех граждан, как мы это видели в некоторых кантонах Швейцарии и во всем Швейцарском Союзе для законов, касающихся изменений Союзного Уложения. Дальнейшим улучшением этой формы считается, наконец, отдача всех законов на народное голосование, с предоставлением правительству права только от себя издавать.
Перечислять здесь все неудобства таких форм, все нарушения свободы, к которым они приводят, всю неспособность этих форм выражать, хотя в большинстве случаев, волю и желание большинства, — было бы неуместно, эта критика делалась много раз, и достаточно сказать, что все ее выводы выведены не из логического разбора возможностей, а из критики реальных, ныне совершающихся явлений. Достаточно, наконец, сказать, что весь этот разбор привел к следующим положениям:
Помимо всех тех качеств и свойств всякого правительства, которые вытекают из экономической неравноправности, все указанные формы приводят к тому:
«Что центральное правительство округа, штата и союза не есть выражение воли большинства населения; что, постоянно усиливаясь, оно ведет к захвату прав штата, округа, общины; что отдельные личности, обладающие большею энергиею, могут, хотя на время, захватить в свои руки большую власть и парализировать все необходимые меры, которые желает принять большинство;
что, создавая весьма сложную государственную машину, требующую долговременной практики для ознакомления с ее механизмом, такой порядок ведет к образованию класса, специально занимающегося государственным управлением, который, пользуясь приобретенною опытностью, начинает морочить остальных ради собственной выгоды;
что, наконец, граница между законом и постановлением не может быть проведена даже с приблизительною точностью и что, таким образом, приходится передать значительную власть в руки центрального правительства округа или штата, за невозможностью ежедневно собирать весь народ для голосований».
Вся эта критика привела Прудона к отрицанию всякого правительства — к безначалию (анархии).
Чтобы решить вопросы между предложенными воззрениями, не вдаваясь в очень обширные рассуждения, мы обратимся к самому корню государственной идеи.
Черта, общая всякому правительству, есть та, что члены общины, округа, штата, государства, лишены части своего права решать свои собственные дела, и это право предоставлено нескольким личностям. При этом определяется в общих чертах, какие именно дела могут решать эти личности, составляющие местное правительство; не менее коренная черта та, что этой группе личностей предоставляется решить не одно какое-нибудь частное дело, но все те дела, которые возникли и могут возникнуть по управлению общими делами, и определяется только объем, в котором они могут решать эти дела. Другая черта, общая всякому правительству, столь же основная, есть та, что этой же группе личностей или же еще меньшей группе, избираемой либо первою, либо всею остальною совокупностью народа в государстве, округе или общине, предоставляется приводить в исполнение решения либо общего собрания, либо выборного правительства. Для этого создается целая лестница исполнительных органов, обязанных подчиняться приказаниям исполнительной власти общинной, окружной или государственной. В видах удобства, исполнительная власть общинная подчиняется окружной, а эта, в свою очередь, государственной. Такова в общих чертах суть всякого правительства. Различия состоят только в том месте, где обширнее круг действия общины, а в других местах больше общих дел передано окружному или центральному правительству; в одних местах эти власти все или отчасти выборные, в других они сами себя поставили над народом и т. д.
Неудобства, возникающие от такого порядка дел, слишком известны, чтобы следовало на них останавливаться. Но важнее здесь не то, велики или малы эти неудобства, а то, что они лежат в самой основной мысли учреждения, в самой ее сущности, и потому не могут быть устранены никакими мерами, вроде ограничения, контроля и т. п., пока продолжает существовать самая сущность учреждения, а в самой сущности мы знаем, что всякая группа людей, которой поручено решать некоторую совокупность дел, нередко ограниченных качественно, всегда стремится расширить круг этих дел и свою власть в этих делах. И чем умнее, энергичнее, деятельнее эти люди, тем более будет это стремление с их стороны к захвату непорученных им дел.
Чем энергичнее, чем деятельнее и чем добросовестнее эти люди, тем больше привыкает остальное общество не следить за их деяниями и не проверять их. Тем легче, следовательно, случайно попавшему в правительство недобросовестному, но талантливому человеку, направить деятельность этой группы к достижению своих личных целей.
Известно, что самое трудное составляет приложение к делу какого-нибудь общего начала. И чем новее это начало, чем менее оно сознано в частных его приложениях, тем легче, при приложении этого общего начала, сделать такие уступки, которые могут совершенно парализировать самое начало. Между тем в системе выборных, которые должны решать за известную группу людей, поневоле приходится требовать от них только решения согласно с общим началом в принципе, а не во всех частностях. Словом, самая трудная часть решения, где всего более требуется содействие разнообразных складов ума, предоставляется группою отдельной личности.
Всякая центральная власть округа, штата или государства должна состоять из небольшого числа лиц, и чем крупнее эти единицы, тем менее возможности, чтобы избранные лица были известны большинству; тем менее, следовательно, обеспечивается избрание надежных достойных лиц.
Наконец, всякое правительство, созданное по нынешнему образцу, должно иметь в своем подчинении силу, которая приводила бы в исполнение его решения. Но понятно, что если бы решения правительства всякий раз признавались полезными большинством равноправных граждан, то в такой силе вовсе не могло бы быть никакой нужды. Если бы встречались мелкие единичные уклонения отдельных лиц или мелких групп от исполнения воли всех, то эти личности или группы или были бы оставлены, или бы вынуждены к исполнению невыгодами такого уклонения, без всякой физической силы. Эта физическая сила, состоящая на службе у всякого правительства, только потому и необходима, что никакое правительство не может быть выражением воли громадного большинства; чем ближе к этому выражению, тем менее бывает физическая сила в распоряжении у правительства (пример: Соед. Шт. с 40 000 войска).
Все эти рассуждения опять-таки приводят к зловредности всякой центральной власти, и, следовательно, к обеспечению. Но представим себе страну, организованную без такой центральной власти, без правительства, и посмотрим, в каких отправлениях общества может оказаться надобность в таком правительстве?
Представим себе группы сельских общин, занятых земледелием и производящих хлеб, скот и т. п.
Представим себе, что, по общему согласию всех жителей данной страны, эти общины не считаются собственниками занимаемых земель, а только пользуются ими. Положим, что в отдельной общине является тунеядец, который отлынивает от работы и желает жить, не работая. Теперь он не получает денег и без денег не может жить. Тогда он не получит денег-чека рабочего времени, что он отработал ежедневно свою долю нужного труда, и без этого также не будет в состоянии жить.
Положим, что он начинает грабить и т. п. Теперь его препровождают к становому и т. д. Тогда с ним распорядится общинный самосуд сам или через выборных.
Словом, понятно, — и об этом не может быть спора, — что во всех своих внутренних делах община так же, как и теперь, сумеет и сможет сама распорядиться, не создавая правительства.
Но положим, что одна община захватывает у другой земли, загоняет свой скот на ее луга или запахивает ее пашни и т. п. Теперь из-за этого возникает целое дело, решаемое во всевозможных правительственных судах. Что же без этих судов? Во 1) никакая община хлебопашцев…[6]
Мы переходим теперь к самому трудному, но вместе с тем и самому существенному вопросу нашей программы, к вопросу о практических мерах, которые следует принимать для осуществления нашего идеала.
Мы сказали уже, что, по нашему убеждению, осуществление этого идеала должно совершиться путем социальной революции. При этом мы вовсе не ласкаем себя надеждою, что с первою же революциею идеал осуществится во всей полноте: мы убеждены даже, что для осуществления равенства, какое мы себе рисуем, потребуется еще много лет, много частных, может быть, даже общих взрывов. Но мы убеждены также, что чем полнее, чем ниже будут поставлены требования масс с самой первой революции, чем яснее, чем реальнее будут выражены эти требования, чем более будет уничтожено, с первого же шага, культурных форм, мешающих осуществлению социального строя, чем более будет дезорганизовано тех сил и отношений, которыми держится теперешний общественный и государственный быт, — тем мирнее будут последующие перевороты, тем скорее будут следовать друг за другом крупные усовершенствования в отношениях людей. Поэтому нашею целью должно будет употребить свои силы на то, чтобы ускорить этот взрыв; чтобы выяснить те надежды и стремления, которые существуют у громадного большинства в неясных формах, чтобы можно было своевременно воспользоваться такими обстоятельствами, при которых взрыв мог бы иметь наиболее благоприятный исход; чтобы, наконец, самый взрыв произошел во имя ясно выраженных требований и именно во имя тех, которые приведены нами выше.
Мы должны, следовательно, приложить совокупность мер, которыми, по нашему мнению, наилучшим образом достигаются эти цели.
При этом, если при разработке нашего идеала мы могли, в значительной мере, итти логическим путем, то здесь главною нашею опорою будет опытный путь. Говоря об идеале, мы могли исходить из общих стремлений и надежд массы и выводить тот общественный склад, который наилучшим образом мог бы удовлетворить этим стремлениям (конечно, не противореча складу воззрений нашего народа) и быть выражением понятий о справедливости, которые всегда присущи всем массам. Здесь же мы не можем уже довольствоваться общими надеждами и стремлениями нашего народа; мы должны принять в расчет целую массу частных представлений, образов мыслей, отношений, поступков и т. д., предвидеть которых заранее нет возможности, узнать которые можно только путем опыта.
Далее, в общих стремлениях масс, у всех народов, чрезвычайно много общего, оттого стремления и надежды, выраженные западноевропейскими рабочими, во многих отношениях сочувственно принимаются и нашими. Но в вопросах о революционной практике западноевропейские примеры должны быть приводимы лишь с крайнею осторожностью, так как взвесить, в каждом данном случае, всю совокупность бытовых условий, которою обусловливался тот или другой результат, крайне трудно.
Но этими соображениями определяется также и одна общая черта всей второй части нашей программы. Если наши идеалы мы считаем теперь окончательно установленными, если основные начала наших идеалов мы считаем неизменными, если всякую частную уступку мы сделаем только тогда, когда увидим окончательную невозможность осуществить какую-нибудь сторону нашего идеала на практике, и тогда все-таки будем считать эту уступку вынужденною и временною, — то, с другой стороны, — так как программа наших практических подготовительных мер, должна определяться не только их целесообразностью ввиду общего идеала, но и совокупностью бытовых условий среды, где мы действуем, то-есть рядом наблюдений, то мы не будем считать этой части нашей программы чем-нибудь неизменным, напротив того, мы будем готовы на всякое изменение ее, если только жизнь покажет нам, что такой-то способ действий ближе и лучше ведет к предположенной цели.
Есть, однако, несколько основных положений, которые мы считаем возможным и необходимым удержать неизменными во всей нашей практической подготовительной работе. Это отрицание в революционной организации таких отношений между лицами и таких способов действий, которые прямо противоречат идеалу, ради которого они вводятся.
Таким образом, мы безусловно отрицаем введение в революционную организацию подчинения личностям, порабощения многих, одному или нескольким лицам, неравенство во взаимных отношениях членов одной и той же организации, взаимный обман и насилие для достижения своих целей. Нечего и говорить, конечно, что все подобные средства мы считаем совершенно позволительными и даже необходимыми во всех наших отношениях к представителям капитала и власти, с которыми вступаем в борьбу.
Мы еще вернемся к этим вопросам, когда выясним характер предполагаемой нами организации.
Прежде всего мы глубоко убеждены в том, что никакая революция невозможна, если потребность в ней не чувствуется в самом народе. Никакая горсть людей, как бы энергична и талантлива она ни была, не может вызвать народного восстания, если сам народ не доходит, в лучших своих представителях, до сознания, что ему нет другого выхода из положения, которым он недоволен, кроме восстания. Следовательно, дело всякой революционной партии не вызвать восстание, а только подготовить успех готовящегося восстания, т.-е. связать между собою недовольные элементы, помочь ознакомлению разрозненных единиц или групп со стремлениями и действиями других таких же групп, помочь яснее определить истинные причины недовольства, помочь им яснее определить своих действительных врагов, снимая маску с врагов, прикрывающихся какою бы то ни было благовидною личиною, наконец, содействовать выяснению сообща ближайших практических целей и способов их осуществления.
Поэтому, прежде всего, есть ли эти недовольные элементы в русском народе, существует ли то настроение, которое необходимо для успеха всякой революционной пропаганды и организации?
Мы можем смело ответить, что да.
Все наши личные наблюдения, все сведения, которые мы получаем, неоспоримо свидетельствуют, что среди нашего крестьянства и фабричных рабочих глухое недовольство существует, что рядом с систематическим разорением народных масс это недовольство растет, что в первое время после освобождения крестьян оно было несравненно слабее, чем теперь, что надежды на то, что тем или иным способом помещиков уравняют в земле, податях и натуральных повинностях с крестьянами, продолжает жить среди народа, что надежда на то, что это уравнение произойдет сверху, — мало-по-малу утрачивается, что боготворение царя в некоторых местах заметно подрывается, что это боготворение, о котором так много говорили прежде, вообще чрезвычайно непрочно и очень легко уступает место, особенно в крестьянской молодежи, совершенно иным отношениям, что уверенность в том, что царь бессилен среди окружающих его бар, постоянно усиливается и, таким образом, неизбежно ведет к тому, что народ, однажды выведенный из терпения, примется беспощадно истреблять этих бар, а царь без их поддержки, конечно, станет бессильным названием, что это недовольство крестьянства замечается не в одной какой-нибудь местности, а более или менее сильно повсеместно, что отрицают его только те, которые никогда не стояли в близких отношениях к крестьянству, и, наоборот, утверждают все те, которые каким бы то ни было способом стали в близкие отношения к крестьянству или фабричным рабочим, что, наконец, наблюдения тех же людей приводят к тому, что готовность к риску гораздо сильнее, чем это могли думать даже оптимисты, что, наконец, то же подтверждается местными волнениями, которые постоянно продолжаются время от времени. Таковы отношения в экономической сфере. Что касается до государственной, — то мы видим, с одной стороны, полнейшее равнодушие ко всем реформам правительства, с другой — повсеместную ненависть ко всякому представителю государственных интересов, при чем ненависть эта постоянно возрастает с увеличением государственных поборов. С другой стороны, расхождение между барством и народом, развитие безумной роскоши среди барства, гигантское развитие в барстве невообразимой жадности и разврата, сопровождающееся упадком творчества, таланта и трезвой мысли и развитием жестокости, бешеной погони за легкой наживой и т. д. и т. д. свидетельствуют о том, что барство, с своей стороны, не решится своевременно на нужные уступки и не сумеет ими удовлетворить народ.
Наконец, развитие в Европе военно-хищнического элемента, безумное увеличение постоянных армий и неизбежность крупных войн в Европе свидетельствуют о неизбежности такого развития государственной силы, которое должно вести быстрыми шагами многие государства Европы, начиная с беднейших, к полному банкротству, а народ — к дальнейшему разорению.
Словом, все, что мы видим кругом нас, приводит к несомненному убеждению, что приступить к организации революционной партии вполне своевременно и что задачи этой партии облегчаются всюду встречаемым ею содействием.
Задачи этой партии могут быть подразделены для удобства обзора на две отрасли деятельности, которые должны, впрочем, итти на самом деле одновременно и неразрывно: это, с одной стороны, распространение своих воззрений и увеличение числа своих единомышленников и, с другой стороны, соединение с ними в одну общую организацию. Для удобства, мы рассмотрим обе деятельности порознь.
Прежде всего, куда должна быть направлена наша деятельность, где должны мы по преимуществу распространять свои воззрения и подыскивать себе единомышленников: — в среде ли учащейся молодежи и вообще барства, или же в среде крестьянства и городских рабочих?
Мы отвечаем на этот вопрос категорически и этот ответ считаем основным положением в нашей практической программе: непременно в среде крестьянства и городских рабочих. Здесь должны мы распространять наши воззрения, здесь должны мы подыскивать товарищей, которые помогли бы дальнейшему распространению этих воззрений, с этими товарищами должны мы стать в дружную, тесно сплоченную организацию. С образованною средою и преимущественно со средою учащейся молодежи мы не хотим прерывать всяких сношений, но, отказываясь на себя брать роль неотлучных воспитателей этой молодежи в указанном направлении, мы будем вступать в тесное сношение только с теми кружками или людьми, относительно которых, при первом же знакомстве, мы приобретаем уверенность или почти полную надежду, что они направят свою дальнейшую деятельность в среду крестьянства и городских рабочих. Для всей массы образованной молодежи мы готовы делать только одно: распространять и, если дело не может обойтись без нашего содействия, а также, если хватит свободных сил, заготовлять такие книги, которые непосредственно содействуют разъяснению наших идеалов и наших целей, которые дают в руки факты, чтобы показать всю необходимость социального переворота и необходимость сплотить, сорганизовать пробуждающиеся народные силы.
К этим заключениям мы пришли путем опыта, путем самой жизни, но мы можем подтвердить их и несколькими общими соображениями. Мы изложим и те, и другие.
Прежде всего, восстание должно произойти в самом крестьянстве и городских рабочих. Только тогда может оно рассчитывать на успехи. Но не менее необходимо для успеха социального переворота существование среди самих восставших сильной, дружно действующей кучи людей, служащих связью между отдельными местностями, согласной в способах действия, ясно определившей, как сформулировать требования народа, как избегнуть различных ловушек, чем закрепить свою победу. Ясно, что при этом такая партия не должна стоять вне народа, а среди его самого, должна служить не проводником каких-нибудь чуждых мнений, выработанных особняком, а только более отчетливым, более полным выражением требований самого народа: словом, ясно, что такая партия не может быть группою людей, чуждых крестьянству и рабочим, а должна быть средоточием наиболее сознательных и решительных сил самого крестьянства и городских рабочих. Всякая партия, стоящая вне народа, а тем более барская, как бы ни была она воодушевлена желанием блага народу, как бы хорошо она ни выражала требования самого народа, — неизбежно обречена будет на погибель вместе со всеми остальными, как только восставший народ, первыми своими поступками, раскроет бездну между барством и крестьянством. И мы видим в этом лишь вполне справедливое возмездие за то, что эта партия не сумела ранее встать среди народа не верховными руководителями, а равноправными товарищами. Только те, которые своею предшествующею жизнью, всем складом своих прежних поступков сумеют заслужить доверие крестьянства и рабочих, будут выслушиваемы ими, а это будут только деятели из самого же крестьянства, и те, которые безраздельно отдадутся народному делу и докажут это не геройскими поступками в минуту увлечения, а всею своею предшествовавшею обыденною жизнью, те, которые, отбросив в жизни всякий оттенок барства, теперь же завяжут тесные отношения, связанные личною дружбою и доверием, с крестьянством и городскими рабочими. Наконец, если мы уже признаем необходимость сплочения пробуждающихся народных сил, то мы решительно не понимаем, каким образом можно было бы не прийти к заключению, что единственно возможное для этого положения есть положение среди самого же крестьянства и рабочих, с таким складом жизни, который служит окружающим прямым доказательством того, что исповедуемые убеждения суть не простое разглагольствование, а дело всей жизни.
Такова главная причина, которая побуждает нас перенести нашу деятельность в среду крестьянства и городских рабочих. Но есть еще несколько второстепенных соображений, которые приводят к тому же результату.
Самое главное — это сравнительно слабая восприимчивость нашей учащейся молодежи к проповеди социальной революции и к активному действию в этом направлении. При этом очевидно, что такая невосприимчивость вызывается не недостатком данных, которые приводили бы к убеждению в невыносимости теперешнего общественного быта, — эти данные слишком общеизвестны; не невозможностью убедиться в том, что всякое полезное преобразование в этом направлении не может быть невынужденным, — и в этом отношении современная история слишком богата данными, — а просто невосприимчивостью ко всякого рода крайним воззрениям, неспособностью отрешиться от преданий школьной науки и, наконец, просто нежеланием притти в теории к такого рода заключениям, выполнение которых в жизни вовсе нежелательно. Кроме того, всякая образованная молодежь так заражена поклонением авторитетам, так развращена привычкою требовать, чтобы ее убеждали сотнею фактов, навороченных и представленных на все лады, выкопанных из самых авторитетных, разнообразных источников, тогда как существует уже целая совокупность фактов, доказывающих те же положения (подобно ученым, утверждающим, что изменчивость видов еще не доказана), наконец, так привыкла требовать, чтобы ей научно вывели ход будущего развития человечества, тогда как вывести это научным путем ни теперь, ни в очень далеком будущем невозможно, — что, говоря вообще, для всякой проповеди среди образованной молодежи нужны такая начитанность и такая диалектика, которые представляют страшную непроизводительную затрату времени и отвлечение сил от несравненно более насущного дела. Между тем, те из молодежи, которые искренно ищут выхода из своих сомнений, неизбежно приходят сами, узнавая нужные факты, к тем же заключениям о необходимости революционного действия. Поэтому нашею обязанностью по отношению к этим личностям, было бы только давать им возможность узнать нужные факты, т.-е. знакомить с главными моментами новейшей истории рабочего движения на Западе и у нас, с отношениями к этому движению барства и правительств и, наконец, с результатами, к которым мы сами приходим в нашей деятельности, — но и здесь — лишь постольку, поскольку наше содействие может способствовать появлению и распространению таких книг. Затем мы, конечно, будем вести знакомство с такими кружками, где можем встретиться с такими людьми, которые, не развратившись барски-ученым духом, охотно соглашаются в необходимости перенести свою деятельность в рабочую среду, и постараемся не упускать случая ближе сойтись и сговориться с такими людьми. Но брать на себя роль воспитателей, заниматься воспитанием и выработкою людей народного дела, мы положительно отказываемся, так как всегда можем подыскивать себе единомышленников, гораздо более надежных, во многих отношениях более полезных, а, во всяком случае, более нужных, обращаясь прямо в среду крестьянства и городских рабочих. Наконец, мы должны признать, что даже самые лучшие представители цивилизованного общества, если они уже успели взриться в эту разъедающую обстановку, никогда не дают таких полных представителей народного пропагандизма, каких можно желать. Сила их привычек к известному образу жизни и мыслей и к известному складу миросозерцания, настолько в них велика, что даже и отдельные личности никогда вполне от них не отрешаются.
Наконец, есть еще одна сторона деятельности в среде крестьянства и городских рабочих, которую не следует оставлять без внимания. Необходимое и первое условие какого бы то ни было успеха среди крестьянства и рабочих есть полнейшее отречение от всяких признаков барства, понижение своей материальной обстановки почти до уровня той среды, где человек намерен действовать, и труд, фактический труд, который каждому рабочему, каждому крестьянину понятен именно, как труд. С другой стороны, мы знаем, что от всякого революционного деятеля требуется крепкая нравственная закалка, т.-е. упорная, устойчивая сила воли. И всякая партия действительно всегда стремилась к тому, чтобы вырабатывать это качество в своих сочленах, но большею частью этого стремились достигнуть преимущественно взаимным нравственным влиянием.
Не отрицая благотворности последнего, мы считаем его однако недостаточным и полагаем, что лучшею школою для выработки этой воли есть добровольно на себя принятый, полезный, но не легкий, упорный труд и отказ от материальных благ. Человек, неспособный отрешиться от этих удобств, когда видит полезность такого отрешения, неспособный на упорный, скучный труд, никогда не будет способен на упорную революционную деятельность. Минутами он может быть героем, но нам не нужно героев: они сами явятся в минуту увлечения из самых обыденных людей; нам нужны люди, которые, раз прийдя к известному убеждению, готовы изо дня в день терпеть из-за него всевозможные лишения. Но обращение в среду крестьянства и городских рабочих именно и требует отказа от всяких житейских благ, сужения своего благосостояния до уровня доступного рабочему — и труда, непременно труда. Таким образом, мы видим в указываемой нами деятельности и неизбежное воспитательное значение и, вместе с тем, лучшее средство для того, чтобы узнавать людей. Если бы какие бы то ни было лишения приходилось налагать на себя, как искупительную епитимию или исключительно как воспитательную меру, то мы, конечно, не стали бы говорить о ней; мы не монашеский орден. Но в наш век всякой лжи и обмана других и самих себя, мы считаем не лишним указать, что деятельность среди крестьянства и рабочих, вызванная совершенно иными соображениями, имеет, между прочим, и этот смысл, и это значение.
С другой стороны, мы видим, что подыскивание, среди крестьянства и городских рабочих, личностей, которые могли бы служить центрами дальнейшей пропаганды идеи о необходимости социального переворота, в указанном выше направлении, дает результаты, положительно даже лучшие, чем те, которых могли ожидать несколько лет тому назад самые смелые начинатели. Мы могли бы здесь нарисовать картину результатов, достигаемых в нескольких концах России, но чтобы не дать недоговоримой картины, вместо той, которую следовало бы начертать, мы окончательно воздержимся от этого.
Всякий, искренно желающий узнать эти результаты, всегда найдет возможность узнать их устно от нас и наших друзей.
Вот почему мы выставляем основным положением нашей практической программы — распространять наши воззрения и подыскивать себе единомышленников почти исключительно среди крестьянства в городских рабочих.
Мы переходим теперь к возможным возражениям против этого положения.
Нам могут заметить: такую деятельность еще рано вести. Нас мало: когда нас наберется достаточно, чтобы наша деятельность среди народа могла иметь заметные результаты, тогда мы, конечно, направимся в крестьянство и рабочую среду. До тех пор будем же подбирать себе товарищей из образованной молодежи.
Отчасти мы уже ответили на это возражение, указав на то, что мы скорее находим себе единомышленников в крестьянской и рабочей среде, чем в среде образованной молодежи. Но мы можем привести и более частные доводы против этого возражения.
Прежде всего, это возражение предполагает доказанным одно положение, которое однако не доказано, да и не верно. Это то, будто наиболее плодотворными проповедниками и организаторами среди народа есть и будет так называемая интеллигенция. Мы считаем это положение совершенно ложным. Если на стороне человека интеллигенции есть больше знаний, больше уменья аргументировать, больше способности уловить в каждом факте известную его сторону, то из этого еще вовсе не следует, чтобы такой человек непременно был лучшим агитатором, чем человек из народной среды. Опыт до сих пор приводит к заключению, что из народной среды могут выработаться такие же преданные делу агитаторы, какие выходили из интеллигенции. Что же касается до убедительности доводов этих агитаторов, то нужно помнить, что они имеют дело не с учеными, которые всегда готовы укрыться за каждый бруствер, за каждый куст, чтобы только отстоять какую-нибудь традиционную идею, а с людьми, не предубежденными против истинности социальных воззрений. Если аргументация таких агитаторов и не могла бы устоять перед аргументацией какого-нибудь философа, то убежденность в том, что существующий строй настолько плох и настолько неподатлив, что изменить его нужно и возможно только путем восстания, — раз вселившись, обращается у этих агитаторов уже в веру и не уступает ни перед какою аргументациею; человек после этого скорее ищет уже мотивов того, что ему говорится, чем логической доказательности утверждаемого. Наконец, мы убеждены, что для того, чтобы убедиться в несправедливости нынешнего строя, к неспособности его изменяться без напора со стороны угнетаемых, наконец, в возможности изменения его этим путем, вовсе и не требуется такой обширной подготовки, о которой всегда мечтает в таких случаях цивилизованное юношество. Но раз признавши, что для подготовки социальной революции достаточно подготовки, даже несравненно меньшей, чем та, которую мы получаем, но только направленной целесообразно, и что такая подготовка людей непредубежденных вовсе не требует страшной массы времени, — мы должны будем признать далее, что по кругу и способу своего действия агитатор из народа будет несравненно полезнее, чем агитатор из цивилизованной среды. Это последнее утверждение так уже ясно, что мы и не будем о нем распространяться.
Далее мы считаем коренною ошибкою, выставив целью создать агитаторов среди народа, самим держаться поодаль от народа и вращаться в кругу своих интеллигентных товарищей. Нельзя, в данную минуту, по собственному желанию разом перейти из интеллигентных сфер в круг народной жизни. Интеллигентные сферы во всем кладут на людей, вращающихся в них, особый отпечаток, от которого нужно сперва отрешиться, чтобы иметь успех среди народа. Сделаться народным агитатором в несколько дней нельзя, — нужно воспитаться в этой деятельности. Поэтому мы считаем лучшим средством для достижения этой своей цели неотложно приступить к деятельности среди народа, как бы ни был мал кружок людей, пришедших к этому заключению. Мы убеждены также, что сплачивать людей, во имя будущей деятельности, нельзя или, по крайней мере, крайне неудобно и что гораздо легче сплачивать людей во имя такой деятельности, в возможности и целесообразности которой всякий может сам сейчас же убедиться, к которой он может сейчас же приступить. Показывая достигнутые результаты и действуя на людей не одним словом, а словом и делом, — гораздо легче их убедить в том, в чем сам убежден. Наконец, так как приходится иметь дело с самыми обыкновенными людьми и так как всякое начинание надо строить на содействии именно таких людей, то приходится иметь в виду, что всякое объединение, во имя предполагаемой со временем деятельности, к которой нельзя приступить сейчас же, — поведет к образованию кружков из таких людей, которые взаимное схождение и влияние друг на друга скоро поставят главным своим делом и скоро совершенно забудут о своей будущей цели. Наконец, немедленно, приступая к деятельности среди народа и предлагая приступить к ней тем из цивилизованной молодежи, с которыми мы сходимся, мы сразу даем им возможность испробовать и доказать свои силы на таком поприще, которое требует отказа от многих прежних традиций и, вместе с тем, есть уже дело на пользу будущей революции, ибо каждый из цивилизованной молодежи, хотя бы он и не считал себя подготовленным к агитации среди своих цивилизованных собратий, всегда имеет уже в запасе столько фактов, что может ими делиться с людьми из крестьянства и рабочих. Если даже его идеалы будущего не настолько ясно им сознаны, чтобы служить предметом распространения, он всегда может содействовать развитию в рабочих и крестьянах критики существующего, разоблачению причин всех язв современного быта. Также общение с крестьянством и рабочими нисколько не помешает развитию тех именно идеалов, которые прямо вытекают из отрицания неправды всех сторон существующего быта.
Словом, мы полагаем, что сходиться ради того, чтобы немедленно приступить к деятельности среди народа, есть наиболее прямой путь, что сходиться во имя какого-нибудь будущего дела крайне неудобно, что сходиться во имя начатого уже дела гораздо целесообразнее и полезнее, что всякий результат, достигнутый в деятельности среди народа есть уже результат, достигнутый ради социальной революции, что деятельность среди народа есть деятельность, которая дает возможность приложить свои силы каждому честному человеку, что эта деятельность представляет наилучшие условия для его собственного дальнейшего развития и исключает возможность отвлекаться от своей конечной цели, что, наконец, такая деятельность, веденная совокупно, есть лучшее средство согласить между собою разнообразные оттенки в образе мыслей, которые всегда будут существовать, и привести их к наиболее прямому выражению стремлений, к равенству, присущему народу.
Поэтому, мы считаем такую программу, которая требует, прежде чем приступить к деятельности среди народа, полного соглашения между деятелями во всех частностях идеала и кроме того организации обширной группы деятелей — положительною ошибкою. Поэтому мы говорим каждому честному человеку, как бы одиноко он ни стоял в каком-нибудь уголке России: станьте в такое положение, при котором вам можно будет сходиться с крестьянами или городскими рабочими, в отношении равенства, начните подбирать себе единомышленников и старайтесь подготовить из лучших людей этой среды преданных делу народных агитаторов: тогда, во имя начатого дела, подбирайте себе товарищей из незараженной барством интеллигенции.
Вот прямое выражение наших взглядов на этот вопрос. Мы можем только прибавить, что ежедневный опыт показывает, что к такому же заключению приходят весьма многие, совершенно независимо друг от друга.
Затем является вопрос, в каком же положении деятельность среди народа может быть наиболее полезна? В какое положение должен стать народный деятель?
Мы можем дать на эти вопросы один общий категорический ответ. Прежде всего, — такое, при котором человек живет при такой обстановке, что всякий вошедший к нему и говорящий с ним рабочий или крестьянин видит в его образе жизни такого же рабочего и крестьянина, как и он сам, и если чувствует рознь между собою и им, то только в степени развития. Поэтому всякое такое положение, при котором человек, чтобы удержаться на месте, принужден жить в обстановке барской, — мы считаем положительно не выгодным. Мы, таким образом, положительно отрицаем возможность успеха в положении всяких правительственных чиновников, земцев и пр. Затем мы думаем, что самое выгодное положение есть положение крестьянина или фабричного работника, но полагаем, что есть и многие другие положения, не исключающие, в том или другом частном случае, возможности действия, как, напр., сельский фельдшер, иногда учитель, может быть, даже волостной писарь и т. д. Не место было бы здесь вдаваться в разбор относительных выгод этих положений: руководясь поставленною себе целью, каждый сам лучше нас сумеет взвесить выгоды и невыгоды каждого положения.
Мы переходим теперь к ближайшему определению того, в чем собственно должна состоять, по нашему мнению, деятельность всякого, ставшего в такое положение. В общих чертах эта деятельность ясна: это — разъяснять окружающим коренные недостатки существующего строя; разъяснять ту замаскированную и явную эксплоатацию, которой подвергается работник со стороны всех высших слоев общества и правительства; указывать средства для выхода из этого положения, т.-е. убеждать в том, что этот строй не изменится без сильного напора со стороны угнетаемых, что всякая уступка барства может быть вынуждена только силою; наконец, что добиваться и добиться одной какой-нибудь частной уступки не имело бы никакого значения, в силу солидарности всей экономической и государственной эксплоатации; убеждать в том, что насильственное отнятие у бар и правительства их средств эксплоатации возможно и что есть данные утверждать, что согласие в этом исходе устанавливается между крестьянами и рабочими различных местностей; наконец, сплачивать наиболее деятельные личности в одну общую организацию, т.-е. доставлять возможность лично знакомиться таким деятелям из различных местностей, узнавать, таким образом, о ходе дела в различных местах, совещаться и сговариваться между собою относительно общих мер.
Если согласиться, что таковым должен быть характер деятельности всякого, стоящего среди крестьянства и городских рабочих, то этим решается один спорный вопрос: должно ли своею проповедью обращаться к отдельным личностям или к массам; другими словами, какую пропаганду вести, — личную или массовую? Мы не имеем теперь достаточной опытности, чтобы решить этот вопрос окончательно, но предложим здесь несколько соображений по поводу той и другой.
Мы думаем, что, если восстание не предвидится сейчас же, через очень короткий промежуток времени, то вести пропаганду открытую, повсеместную, обращенную ко всем и каждому, — нельзя, да и незачем. Ходить по деревням, сеять на ходу мысль о необходимости восстания, производить мимолетное впечатление, допустив, что человек находится в таком положении, при котором крестьянство его слушает, мы считаем бесполезным, а главное не наиболее полезным в данную минуту. Всякое кратковременное впечатление в этом направлении не будет прочно: оно очень скоро изгладится, если та же мысль впоследствии не будет постоянно поддерживаться местными народными агитаторами. Наконец, чтобы произвести сколько-нибудь сильное, одновременное впечатление на необъятном протяжении России, потребовалось бы гораздо больше деятелей, чем сколько бы их можно было собрать теперь.
Поэтому мы считали бы более полезным оседлое влияние и в этом случае как влияние на расположение умов вообще, в данном селе или даже околотке, так и влияние на отдельные личности, но в этом случае — на столько полное и сильное, чтобы по удалении деятеля из села, оставшиеся отдельные личности продолжали бы объяснять своим односельцам те же воззрения и продолжали бы подбирать лучших личностей для расширения дела. При этом считаем, конечно, необходимым, чтобы такое село или деревня впоследствии постоянно посещались (и по возможности чаще) тем, кто прежде в нем жил, или теми, которые через него сведут знакомство с кружком подобранных людей того села. Затем не менее необходимых считаем мы, чтобы кружок этого села был знаком не только с тем агитатором, который в нем жил, но и с людьми из кружков, образовавшихся в других селах. Быть может, для этого потребуются периодические съезды, которые мы считаем совершенно возможными, хотя бы на этих съездах приходилось ограничиваться даже одними рассказами выборных о том, что и как делается в разных местах, — то и тогда были бы они полезными; но весьма вероятно, что на этих съездах поднимутся и некоторые общие вопросы, касающиеся общего дела. Затем мы думаем, что полезно было бы, чтобы всякий деревенский кружок представлял собою какое-нибудь пособие организации, т.-е. сходился бы для обсуждения общих дел кружка (а такие общие дела всегда находятся, и их тем больше, чем ревностнее ведется агитация), представлял бы какое-нибудь распределение обязанностей по общему соглашению и сносился бы с другими знакомыми ему деревенскими кружками. Мы полагали бы, что никогда не следует останавливаться пред ничтожностью возможного состава кружка и наличных в данную минуту вопросов. Если бы кружок мог составиться только из трех человек, но за то эти люди были бы связаны тесною, личною дружбою, то общие вопросы у них нашлись бы и, раз признавши себя в круговой поруке по общему делу, они имели бы более задатков живучести. Если бы съезд состоял всего из выборных от 4–5 кружков и результатом его было бы только, в каждом из этих 4–5 человек, съехавшихся из разных мест, реальное, образное представление о том, что то-то делается там-то, — тоже и этот результат мог бы стоить некоторых затрат времени и средств, лишь бы не преувеличивалось его значение.
Таковы наши доводы за единичную пропаганду и организацию. Но если кружок собирается только для того, чтобы заниматься личным развитием и обучением, если он подбирает себе новых товарищей только для того, чтобы в большей компании безопасно вести болтовню о материях важных, то понятно, что это обращается в самое скверное и вредное безделье. Между тем, замкнутый кружок, если имеет он в виду только сговариваться между собою, неизбежно приходит к этому, если только его члены не обладают достаточным развитием всяких хороших сторон, а именно на такое-то большинство всегда следует рассчитывать. Вот тут-то, по нашему мнению, и является на помощь то, что мы назвали массовою пропагандою. Если целью такого кружка есть действительное распространение своих воззрений не только в кругу посвященных, но и всех односельцев, то такой кружок будет несравненно более застрахован от распадения и от нравственного растления, а вместе с тем будет подготовлять и дело народного движения. В самом деле, если наиболее интеллигентные личности (честные и искренние — эти условия мы считаем признанными прежде всего, как аксиомы) будут постоянно иметь в виду, — сегодня прочесть там-то, такую-то книжку и по поводу ее повести такую-то беседу, завтра завести на посиделке речь об том-то и т. д., то они достигают разом трех целей: лучше узнают настроение отдельных лиц и их способность отстаивать свои убеждения на людях, поддерживают известное настроение в большинстве, да, вместе с этим, и себя самих охраняют от безделья и пустой болтовни. Признаемся, мы как-то всегда не доверяем тем людям, которые приобретают убеждения для самих себя и про запас для исключительных личностей. То есть, мы приходим к заключению, что для того, чтобы единичная пропаганда и организация в крестьянской и рабочей среде могла итти сколько-нибудь успешно, необходимо, чтобы народные агитаторы из интеллигенции или из самой народной среды отнюдь не ограничивались бы одним общением с посвященными, а вместе с тем старались влиять на общее расположение умов во всей массе, всяким способом, какой только будет признан полезным, т.-е. сторонники личной пропаганды и организации признают полезность пропаганды в массе ради самой личной пропаганды и организации. Но пропаганда в массе и сама по себе имеет громадное значение. В самом деле, если мимолетное впечатление не может быть признано серьезно полезным, то никто уже не станет отрицать, что впечатление и действие, постоянно повторяющееся в массе в известном направлении, не могло достигать известного результата, видоизменяя расположение умов в известном направлении. Но нельзя же не признать, что такое видоизменение не только полезно, но и весьма желательно и это — по очень многим причинам. Прежде всего, хотя бесспорно верно, что социальные воззрения так справедливы, так легко вытекают из очень простых соображений, что они присущи всякому народу, но мы знаем, что от смутного сознания, — а оно, конечно, смутно, — до сознания, на столько ясного, чтобы село соглашалось с мерами, которые предлагают лучшие энергичные личности, еще очень далеко. Еще дальше до непосредственного действия. Поэтому, если мы и допустим даже, что в селе мог бы образоваться кружок лучших людей, что они пользуются уважением мира и что они, — взяв село во всей его теперешней неподготовленности, могли бы убедить его взяться за топоры (когда селу известно, что и другие села взялись за тот же исход), — то все-таки нельзя же утверждать, чтоб село, при неподготовленности массы, непременно приняло такие дальнейшие меры, которые облегчили бы и закрепили бы за ним победу; но мало того, нельзя ручаться даже, что, взявшись за топоры, оно возьмется разрушать именно то и в такой мере, что требуется разрушить. Поэтому, кроме подготовки отдельных людей, крайне необходимо, чтобы и во всю массу проникали, не только некоторые, а как можно более, как можно более ясные, сознательные представления о совокупности общих отношений и о возможных способах их переустройства. Говоря это, мы, конечно, вовсе не хотим утверждать, чтобы необходимо было дожидаться до социального переворота, пока во всю массу проникнут ясные, сознательные представления; но мы говорим, что чем больше их проникает, тем лучше, и что, следовательно, упускать какой бы то ни было случай для того, чтобы распространять в массе эти представления, было бы крайне странно и непоследовательно. Именно во всей массе необходимо развивать дух критики, дух недовольства, сознание безвыходности мирных реформ, дух бодрости и веры в возможность союзного действия. Чем более будет развит этот дух в каждом человеке, тем солидарнее со всеми будет также чувствовать себя отдельная личность, вошедшая в народную организацию, тем сильнее будет ее вера в возможность переворота, тем яснее в ней самой будут складываться ее воззрения на будущий возможный строй. Наконец, всякая личность есть продукт окружающих ее воззрений, и чем более проникают в массу известные воззрения, тем более выделяется из массы новых людей, отдающих себя общему делу, тем радикальнее эти люди.
Вот почему мы думаем, что всякий народный деятель не должен упускать никакого случая и даже подыскивать всякий случай, чтобы повлиять на всех и каждого в известном направлении. Эту цель он никогда, ни в одной беседе, ни в одном поступке не должен терять из виду и не может даже, — если только он с увлечением отдается своему делу. Пусть иной задавлен, не развит, способен обдумывать только ближайшие события и вовсе не способен обобщать причин. Но и тут всегда будет возможно, став на точку зрения этого человека, разобрать явление с более широкой стороны и навести его на соображения об общих причинах. С каждым отдельным лицом придется, конечно, розно вести речь: одному придется развить социальные воззрения и выводы из них полнее, другому — в самой первобытной форме, но лишь бы все эти беседы клонились к тому, чтобы развить склонность к этим воззрениям, способность прочувствовать гнет и сознание необходимости противопоставить ему крестьянское единство.
Как вести дело с каждым человеком, какую струну затронуть, на сколько откровенно высказывать свои конечные мысли, — все будет обусловливаться подготовкою того человека, того общества, с которыми имеешь дело, и осторожностью, нужною в том или другом случае; но следует помнить одно, что во всех и каждом надо подготовлять восприимчивость к этим конечным целям, стало быть, надо действовать в этом направлении. Конечно, везде найдутся люди, в которых личный эгоизм сильнее всего остального и возиться с ними, даже случайно, значило бы попусту тратить время и силы; но не об них и говорим мы: мы говорим о всей массе, которой не было случая или времени обдуманнее отнестись к окружающему, но которой именно и придется действовать когда-нибудь. Отказываться от влияния на эту массу было бы просто ошибкою.
В силу сказанного мы считаем, «что влияние на личности и влияние на массу должны итти одновременно, рука об руку; стараться влиять только на общее расположение умов в массе, не созидая тесного кружка нескольких человек, который можно было бы ввести в общую организацию, было бы так же ошибочно, как стараться только создать тесный кружок, но упускать влияние на общее настроение в массе. Выгоды всего дела требуют и того, и другого влияния одновременно». Понятно, что все сказанное вполне приложимо и к городским рабочим. При этом мы напомним, что наши городские рабочие представляют некоторые существенные отличия от западно-европейских и что этими отличиями объясняется, почему деятельность среди городских рабочих, несмотря на их малочисленность в России, имеет серьезное значение.
Дело в том, что рядом с рабочими, обратившимися в постоянных городских жителей и имеющими определенное ремесло, т.-е. с заводскими рабочими, существует гораздо более обширный класс рабочих, так назыв. фабричных. Он слагается весь из крестьян, преимущественно молодежи, не знающих определенного трудного ремесла и поступающих на всевозможные фабрики (ткачей).
Все они на родине имеют земельный надел и находятся в тесной связи со своими односельцами; все они живут в городе непостоянно, а стекаются из разных концов России на время; а затем снова, через год или через два, а нередко во время безработья и каждый год, возвращаются в свои села на крестьянскую работу. Таким образом, представляя подвижный элемент из крестьянской среды, элемент, избавленный от консервативного влияния семьи, наконец, людей несколько более присмотревшихся к разным житейским отношениям, а вместе с тем — элемент, когда возвращается назад, в село, представляет прекрасную, а в большинстве случаев и весьма восприимчивую почву и средство для распространения социальных идей. Наконец, все они живут не в одиночку, как заводские рабочие, а артелями, что значительно облегчает знакомство с большим кругом людей. Выработка из них отдельных личностей, способных к дальнейшей агитации, наконец, облегчается широким простором для выбора лучших людей, а помощь той образованной молодежи, которая приступает к занятиям с этими рабочими, значительно облегчает подбор, давая возможность поддерживать знакомство с очень многими рабочими. Так как эти рабочие нисколько не разрывают своих связей с селом и нисколько не изменяют своего прежнего крестьянского образа жизни, то из них всего удобнее вырабатывать людей, которые потом в селе могут послужить ядрами сельских крестьянских кружков.
Практические приемы такой пропаганды не место здесь излагать, но мы остановимся на одном обстоятельстве, к которому многие, по нашему мнению, слишком легко относятся. Это то, что мы находим полезным и необходимым сообщать рабочим такие сведения, которые относятся к области научных сведений. Прежде всего, к нам часто обращались с просьбою заняться обучением чтению, письму и арифметике. Если это есть единственное средство для знакомства с артелью, и если предвидится, что в этой артели найдутся люди, которые довольно скоро заинтересуются социальной пропагандой, то мы, конечно, не откажемся от таких занятий сами или, если есть другие более производительные занятия, то постараемся подыскать людей, которые, еще не желая заниматься социальной пропагандой, взялись бы, однако, этим заняться, зная, с какою целью ведутся эти занятия. Когда, читая среди этих занятий какие-нибудь книжки и ведя общую беседу по поводу прочтенного, мы видим, что отдельные личности принимают к сердцу общие интересы, мы постараемся учащенными беседами довести этих людей до мысли, что занятия арифметикою или письмом вовсе не ведут к цели, станем тогда знакомить их с совокупностью социальных воззрений и постараемся войти с ними в личные дружественные отношения; тех же, которые будут видеть в занятиях арифметикою свою исключительную цель, конечно, оставим через несколько времени, понимая очень хорошо, что всех желающих арифметике не обучишь и что есть вещи более нужные. Если мы столкнемся с человеком восприимчивым, энергичным, обещающим сделаться полезным агитатором, который не умеет даже читать, мы, конечно, сочтем непременною обязанностью выучить его грамоте, понимая очень хорошо, что человеку грамотному легче вести агитацию, чем неграмотному, что то, о чем не успеешь с ним перетолковать, он узнает и из порядочной книги, и собственным размышлением над прочитанным.
Далее тем лучшим людям, которые сделаются народными агитаторами, мы считаем необходимым сообщить и более обстоятельные сведения по истории, конечно, той, которая служит нам основанием для наших выводов, по так называемой политической экономии, т.-е. по критике существующих отношений между трудом и капиталом. Мы знаем, что переход из мирного рабочего, стоявшего век за станком и проявлявшего свою энергию, честность и отсутствие эгоизма лишь в личных или артельных отношениях, к убежденному, деятельному народному агитатору делается не в день и не в два. Мы знаем далее, что переход тем прочнее, залог дальнейшего успеха тем больше, чем большею совокупностью данных владеет человек, чем большая сфера явлений дает ему доводы для подтверждения своей мысли. Поэтому мы должны сообщать такому человеку нужный ему материал, должны стараться выработать в нем способность пользоваться всякими фактами для подтверждения своих воззрений, а так как в 3-х, 4-х-месячный срок всегда найдется и с избытком время для таких бесед, и так как изложение, напр., нужных исторических фактов или разъяснение экономических отношений бывает удобнее в последовательной форме, то мы считаем положительно необходимым сообщать им эти сведения, — читать им «курсы истории и политической экономии», если только курсами можно назвать десяток последовательных рассказов, в которых каждый факт подтверждает известную сумму воззрений, каждый вывод служит предметом общих бесед на известную тему. Поэтому мы утверждаем:
«Подготовлять народных агитаторов необходимо; подготовить их в недельные сроки невозможно, если желаем оставить по себе что-нибудь прочное; во время знакомства, продолжающегося несколько месяцев, всегда найдется время для обстоятельного ознакомления их с фактами, которые потом очень пригодятся им в их агитации».
Следовательно, нужно вести такие беседы и нужно заботиться о возможно большем развитии таких агитаторов, конечно, всегда строго избегая нагружать их память какими бы то ни было лишними балластами.
Понятно, что во всяком таком деле не может быть определяемо никаких точных границ. Нужно только, чтобы каждый деятель ясно сознавал свою цель и не уклонялся от нее посторонними побуждениями.
Из всего сказанного уже видно, что главное место в нашей пропаганде мы отводим пропаганде личной, устной, а не литературной, как в виду поставленных нами целей, так и в виду неграмотности русского народа.
Но этим мы вовсе не отрицаем необходимости литературной пропаганды и считаем ее необходимою ради тех же целей.
О характере литературной пропаганды в так называемой цивилизованной среде сказано уже выше; там же определены и возможные наши отношения к ней. Но гораздо более необходимо появление и распространение в крестьянстве и рабочих таких книг, которые удовлетворяли бы поставленным выше целям. Такого рода книги мы считаем положительно необходимыми.
Необходимы такие книги, которые давали бы возможность людям, не умеющим легко поднимать и ставить известные вопросы, тем не менее затрагивать эти вопросы. Книга, специально написанная с этой целью, дает возможность поднимать и подвергать общему обсуждению такие вопросы. Далее, необходимы такие книги, которые давали бы народному агитатору нужный материал и факты, чтобы убеждать своих собеседников. Такие факты дают книги по истории народа, книги, объясняющие способы накопления капиталов в частных руках, захвата земель, захвата правительством народных прав и т. д. Наконец, необходимы книги, пробуждающие дух независимости, сознание в народе его силы и бессилия барства, поддерживающие чувства мирского единства, сознание общности интересов и общности врагов всех разрозненных частей русской земли, всех отдельных классов народа и выясняющих круговую поруку царя, барства, купечества, мироедства и поповщины. Словом, нужны беллетристические рассказы, как повод для бесед, нужны рассказы о сильных, выдающихся личностях из крестьянской среды, нужны, наконец, исторические и бытовые рассказы, разъясняющие всю безысходность современного быта, будящие сознание и дух силы, разъясняющие необходимость, возможность и способы предварительной организации. Поэтому мы ставим необходимою своею задачею заготовление и распространение таких книг. Мы уверены, что всякий из занимающихся пропагандой в крестьянской и рабочей среде, обладающей творчеством и талантом, всегда найдет время писать такие книги, не отрываясь от личной пропаганды, и мы всегда готовы будем уделить часть своих сил и на печатание и распространение таких книг.
Понятно, что почти все такие книги должны быть нецензурные. Нам нужны, однако, и цензурные небольшие рассказы, затрогивающие разные стороны общественного быта, потому что с нецензурною книгою нельзя являться в первый раз в совершенно незнакомую группу рабочих и крестьян; поэтому мы всегда будем стараться вызвать от наших литераторов и подыскивать такие рассказы из ранее изданных, которые, будучи по крайней мере невредны, могли бы давать повод к нужным беседам. Понятно, что все это требует самых ничтожных затрат времени, а средства всегда даже могут быть найдены из посторонних источников.
Наконец, мы полагаем, что весьма полезно было бы иметь небольшое повременное издание, пишущееся языком, доступным крестьянам и рабочим, которое действовало бы в этом направлении, внося в него элементы современности.
Нам остается, наконец, рассмотреть один род пропаганды, которую мы назовем фактическою. Сюда мы отнесем всякие такие действия, которые содействуют, по мнению нашему или других, распространению изложенных нами воззрений и организации народной революционной партии. Здесь мы рассмотрим, следовательно, всякие такие учреждения, которыми пропагандируются социальные воззрения, как, напр., артели производительные и потребительные, такие движения, как, напр., местные волнения на фабриках или в деревнях с какою-нибудь частною целью, направленные против каких-нибудь местных злоупотреблений, наконец, местные народные движения с широкою социальною целью.
Мы начнем с артелей. После всего сказанного выше, нечего уже и говорить, что, как средство улучшения общественного быта, мы считаем артели мерою совершенно неприложимою и нецелесообразною. Как воспитательную меру для подготовления социального переворота, мы считаем их не только не полезными, но даже совершенно вредными. Всякое временное улучшение материального быта небольшой кучки людей в нынешнем разбойничьем обществе неизбежно отзывается на них усилением их консервативного духа. Вся дальнейшая их деятельность направляется на то, чтобы сохранить, удержать это свое привилегированное положение, и по этому самому они, роковым образом, должны утрачивать всякий импульс и отчасти даже фактическую возможность распространять это улучшение на остальных. Поглощаемые делами своей артели, они прежде всего заняты ими и становятся менее способными употреблять свое время на активную социальную пропаганду. Затем, мало-по-малу, они утрачивают всякую охоту заниматься этим делом; улучшение обстановки развивает только старание удержать эту обстановку, охранить ее от случайностей всякого движения, полицейского вмешательства и т. д.; развивает самообольщение и высокомерное отношение к своим прочим, менее счастливым братьям; то, что в значительной мере есть результат счастливых случайностей, приписывается своей личной энергии и т. д. Словом, мы убеждены, что всякая артель, сколько-нибудь удачная, есть лучшее средство отвлечь наиболее умных рабочих в полубуржуазное положение, и отнять у революционной агитации нередко хорошие силы. Поэтому мы не считаем артели средством социальной пропаганды.
Таковы самые естественные общие выводы, но каждый из них может быть подкреплен и развит десятками доказательств, взятых из опыта жизни. Вся практика западно-европейская и отчасти русская дают для этого богатый материал. Естественно, что так же мало придаем мы воспитательного значения артелям потребительным. Те из германских агитаторов, которые восхищаются результатами дешевизны в какой-нибудь общественной кухне и придают воспитательное значение общему заведыванию кухонными делами, могли бы именно в России, где каждая артель холостых фабричных рабочих представляет такое потребительное общество, убедиться, как прост и удобопонятен этот принцип, помимо всякой пропаганды, и как легко он осуществляется на практике, если не встречает каких-нибудь внешних или исторических помех. Они убедились бы также, как медлен избираемый ими путь, если учреждение потребительных обществ они считают ступенью к революционной деятельности.
То же, что о потребительных артелях, думаем мы и о кассах взаимного вспоможения, взаимного пособия и т. д. К ним безусловно приложимы все предыдущие соображения и все они могут быть подтверждены еще большим количеством фактов, доказывающих и их бессилие, и их вредное влияние. Мы считали бы даже гораздо более нравственным личную помощь, путем складчины, в каждом нужном случае, случайно пострадавшему товарищу, чем касса, обращающаяся в какой-то налог для бедных. Поэтому мы никогда не станем проповедывать таких касс и готовы всегда отклонять от них наших друзей.
Но зато мы считаем полезными всякие кассы для социальной пропаганды, т.-е. для приобретении книг, способствующих пробуждению критики существующего и сознания своей силы, для пособия агитаторам, покидающим работу и меняющим место жительства с целью пропаганды, для содержания квартир и т. д., хотя, конечно, очень хорошо понимаем слабость таких касс (кроме исключительных, хорошо обставленных рабочих) и потому не станем преувеличивать их значение. Понятно, что всего лучше будут возникать такие кассы, по мере развития потребностей пропаганды и организации.
Наконец, в числе подобных же воспитательных мер, мы считаем положительно полезным общежитие рабочих на началах коммунистических, т.-е. общей собственности всего заработка, но знаем очень хорошо, как велики трудности, с которыми сопряжено всякое такое учреждение, за невозможностью выработки в нынешнем обществе коммунистического духа и отчасти по местным условиям (отсылка заработков в деревни и т. п.). Мы думаем поэтому, что рекомендовать эту меру следует, как прекрасное воспитательное средство для агитаторов, но что приводить ее в исполнение возможно будет только в ограниченных размерах, с исключительными личностями и большею частью лишь при сожитии рабочих с кем-нибудь из воспитавшихся в этом духе членов интеллигентной молодежи. Во всяком случае, если, по характеру сблизившихся людей, такое сожитие возможно устроить, то, по нашему мнению, им не следует пренебрегать.
Что касается до всяких местных волнений, с какою-нибудь частною целью, напр., демонстрации против мастера или управляющего на фабрике, демонстрации против какой-нибудь стеснительной меры, волнения в деревне с целью учета старшины, писаря, посредника и т. п., то мы смотрим на них как на воспитательное средство массы и как на средство для народных агитаторов ближе узнать людей, узнать выдающихся личностей, наконец, самим этим личностям — приобрести местное влияние и отчасти воспитаться в духе более или менее рискованного протеста. Этого значения частных движений, конечно, невозможно отрицать, и так как они всегда бывают помимо воли отдельных людей, то агитатору остается только этим пользоваться, чтобы ближе узнавать людей. Затем нельзя не признать, что такие волнения, если они не привели к жестокому усмирению, всегда поддерживают дух недовольства и раздражения в массе. Но, признавая эту полезность, мы, очевидно, должны решить вопрос, следует ли в интересах организации возбуждать и поддерживать такие волнения? Мы полагаем, что общего решения этого вопроса нельзя дать. Следует только в каждом частном решении иметь в виду, на сколько каждое такие волнение может содействовать или мешать успеху организации и пропаганды. Если можно предвидеть, что такое волнение, дав возможность ближе узнать людей, не повлечет за собою удаления агитаторов из среды, где они уже успели освоиться и приобрести некоторое доверие, и если при этом оно дает массе возможность почувствовать силу дружного протеста, то, конечно, следует поддержать и вызвать такое волнение; если же можно предвидеть, что, даже достигнув своей частной цели, волнение поведет за собою удаление агитаторов из среды, где желательно было бы, чтобы они остались, то следует избегать такого волнения. Деятельными личностями следует по нашему дорожить и не подвергать их риску из-за пустяков или из — за результатов, которыми некому будет воспользоваться. Нужно помнить, наконец, при этом, что все правительства запада, а также наше, не замедлят принять ту же программу, всегда стараясь вызывать даже такие местные волнения, чтобы захватить лучших людей, вырвать их из места или перестрелять и нагнать страх на население. Поэтому всякое такое движение становится мечом обоюдоострым. С одной стороны, выясняются отношения между правительством и народом, с другой стороны, оно слишком тяжело отзывается на силах революционной партии и на лучших людях данного участка. Наконец, есть еще одно соображение, касающееся, впрочем, только людей из так называемой цивилизованной среды. Это то, что во многих волнениях они никак не понесут всех тех последствий, которыми такое волнение ложится на крестьянство и городских рабочих. Как бы ни была тяжела нравственно та кара, которая постигает в таком случае человека из интеллигенции, но она материально (а, следовательно, в глазах народа) несравненно легче, чем кара, постигающая остальных. Очевидно, однако, что это обстоятельство на будущее время вредит агитации человека из интеллигентной среды в данной местности, даже во имя общих начал. Наконец, всякое средство, не прямо ведущее к цели, чрезвычайно легко, во всяком новом деле, становится целью: и мы считали бы необходимым, во всяком подобном деле, всегда прилагать при постановке решения, как отнестись к данному настроению умов по поводу частного вопроса. Не менее существенно и то, что всякая подобная агитация отвлекает внимание и время от агитации более существенной.
Но может явиться и такое соображение. Всякая агитация, не подкрепляемая никаким делом, скоро перестает поддерживать бодрость в деятельных людях. Люди деятельные не могут уже так спокойно сносить окружающих их неправд и неизбежно стремятся к тому, чтобы вступать в борьбу с этою неправдою, в каком бы виде она ни являлась. Стараться воздерживаться от протеста, когда он настойчиво напрашивается сам, значит, развивать равнодушие к окружающему и даже род иезуитизма. Мы думаем, однако, что это возражение было бы неверно, прежде всего очень желательно было бы, чтобы на пропаганду и организацию агитаторы смотрели именно как на дело, и не считали более серьезным «делом» борьбу со старшиною или с мастером. И всякий человек, смотрящий на каждый представляющийся ему факт именно с точки зрения пропаганды и организации, всегда сумеет воспользоваться им, чтобы окружающим разъяснить его, как частное проявление целого, и перенести ненависть страсти, разожженной частным событием, на общего врага. Далее, всякий деятельный и впечатлительный человек и без постороннего вмешательства достаточно склонен к протесту против всякого частного безобразия, а в таких людях скорее приходится сдерживать порывы страстного протеста против частного события, указывая возможность воспользоваться им для народной организации, чем разжигать эту страсть против самого события. Наконец, что касается того, что во всяком совершающемся протесте, как бы ни была очевидна его безысходность и что бы ни было высказано против него в минуту предварительного обсуждения, — во всяком мирском риске агитатор должен быть впереди, — об этой азбуке уже и говорить нечего.
Все сказанное вполне приложимо и к вопросу о стачках. Об них писано и говорено уже так много, что можно ограничиться одними общими выводами.
Прежде всего, ясно, что никакими стачками, как никакою палиативною мерою, положение рабочих не может быть существенно улучшено. То маленькое улучшение, которое иногда достигается стачкою, — уменьшением ли рабочих часов или увеличением рабочей платы, — всегда бывает только временное и очень скоро уничтожается. Далее, можно привести тот факт, что стачка всегда была в Западной Европе единственным средством возвысить сколько-нибудь заработную плату, когда, с увеличением дороговизны, она становилась решительно невозможною для существования. Поэтому в Западной Европе стачка стала обыденным орудием борьбы между рабочими и капиталом, как в фабричной, так и земледельческой сфере, а организация стачки долгое время была даже единственною целью, которою задавались и задаются до сих пор весьма многие рабочие общества и весьма многие агитаторы. У нас стачка есть явление, несравненно более редкое по весьма многим причинам, о которых здесь не место говорить. Должна ли, следовательно, у нас стачка пропагандироваться так же, как в последние 20–30 лет она пропагандировалась в Западной Европе? Не можем ли мы помощью ее достигнуть таких же результатов, каких достигли западно-европейские рабочие и которые, бесспорно, содействуют в некоторых отношениях социальной пропаганде? Сравнивать в этом отношении наше положение с западно-европейским было бы крайне неправильно. Стачки в Западной Европе суть явление не последних лет, даже не последнего века. В Англии, т.-е. именно в той стране, где ими достигнута и наибольшая заработная плата и наименьшие часы работы, они начались и организовывались уже с XIII века. Рабочие союзы, главным образом, ради стачек, уже в прошлом столетии были так распространены и так сильны, что на развитие таких союзов вновь теперь потребовались бы целые десятилетия. Вот почему Англия могла опередить другие страны в скорости повышения заработной платы и уменьшения рабочих часов, которое, однако заметно повсеместно за последнее столетие, хотя и в меньшей мере, чем в Англии. Сила рабочих союзов для стачек не может быть приобретена скоро, — на это нужны долгие годы беспрепятственных со стороны правительства стачек, долгие годы воспитания.
Теперь в рабочих возникают новые идеалы, новые цели, новые стремления. Задачею рабочего вопроса становится уже не частное улучшение быта, а вопрос о передаче орудий труда в пользование самих рабочих. В этой же форме возникает задача и у нас. Следовательно, вопрос об организации для стачек становится уже вопросом о том, должны ли мы теперь, когда задача поставлена широко, трудиться над созданием организации, которая на Западе создалась в то время, когда задача становилась об улучшении быта, а не о коренном преобразовании? Ответ неизбежен и ясен: нет! Разве может быть полезно противодействовать злу в частной его форме, когда уже сознана общая причина зла? Разве мы имеем право скрывать эту общую причину? Разве, раз уже сознана общая причина зла, раз уже появилась надежда и вера в ее искоренение, можем мы и рабочие внести в пропаганду организации для стачек ту веру, какую вносили в эту пропаганду те, кто видел в стачке единственное возможное орудие борьбы с капиталом? Ясно, следовательно, что в России, где рабочее движение начинается в эту пору, не может создаться той сильной организации для стачек, которая существует во многих местах Западной Европы. Ясно, что если рабочее движение не утратит веры в достижение конечной цели, оно не направится на стачки с тою энергиею, с какою направлялось вплоть до последнего времени в Западной Европе.
Но если стачка уже не может быть для нас целью сама для себя, то не может ли она быть полезным средством для достижения заданной цели? Давая реальный, всем доступный импульс для организации, не может ли стачка сослужить ту службу, что подвинет к организации тех, которые без этого импульса к ней не приступили бы? Не послужит ли она хорошим случаем для социальной пропаганды? Но здесь мы, следовательно, опять сталкиваемся с тем же вопросом, на сколько полезно для достижения заданной цели ставить сперва какую-нибудь второстепенную, косвенную цель, или, другими словами, на сколько полезно привлекать к организации, имеющей в виду социальный переворот, людей, которые еще несогласны с необходимостью переворота? Но ответ на вопрос в такой форме не может подлежать сомнению: конечно, не полезно, ибо эти люди будут только мешать организации ее целей, на них нужно действовать, следовательно, иным путем. Вообще, мы считаем не только недобросовестным, но и совершенно непрактичным — завербовывать людей для одной цели, выставляя им другую. Что касается до того, что стачка может служить хорошим поводом для социальной пропаганды, то на это нужно заметить, что для критики общественного быта случай всегда есть, и стачка не есть наиболее удобный. Для пробуждения же сознания собственной силы стачка служит хорошим средством только тогда, когда она оканчивается победою. Говоря о форме, достигшей наибольшего развития на Западе, мы здесь сошлемся на пример Западной Европы. Все имевшие дело со стачками утверждают именно это. Но стачка только тогда увенчивается успехом, когда рабочие (не говоря уже о вмешательстве правительства и допустив даже, что оно не существует) заранее имели прочную кассу, когда они получают помощь (немедленную) от других касс и т. п.; мы же сказали выше, почему думаем, что прочной организации для стачек теперь не думаем достигнуть. Что же касается до сознания (солидарности) единства, общности, которой так способствует круговая порука во время стачек, то мы думаем, что то же сознание, в такой же мере, достигается постоянным сношением кружков, необходимым при всякой организации, — сношением, тем более живым и тесным, чем однороднее состав их. Обширная же организация ради стачек этому последнему нисколько не способствует, а скорее вредит ему, внося крайнюю разнородность агитаторской подготовки в состав необходимых для этой цели кружков. Вот почему мы думаем, что обширная организация для стачек у нас не была бы и целесообразным средством для достижения наших целей.
Затем остается воспитательный элемент стачки, который несомненен во многих отношениях. Всякая стачка приучает к общему ведению дела, к распределению обязанностей, выделяет наиболее талантливых и преданных общему делу людей; наконец, заставляет прочих узнать этих людей и усилить их влияние. Поэтому мы полагаем, что не следовало бы, если бы имелись силы, упускать ни одной стачки без того, чтобы народные деятели не принимали в ней, по возможности, деятельного участия. Но нарочно ради этого возбуждать стачки со всеми их ужасными последствиями для рабочих в случае неудачи (лишениями, голодом, растратою последних грошевых сбережений) мы считаем положительно невозможным.
Наконец, мы приходим к последнему разряду случаев фактической пропаганды. Это местные движения с определенною общею социалистическою целью. Положим, что есть основание думать, что в какой-нибудь губернии могло бы возникнуть восстание с явною целью отобрать все земли, фабрики, дома и капиталы в мирское владение и устроиться по-своему. Но между тем предвидится, что это движение не будет поддержано и его задавят войсками. Следует ли стараться вызвать это движение, следует ли поддерживать нравственно и физически собирающихся начать это движение или же следует у потребить все старания (напр., двинуть в эту губернию все наличные силы), чтобы удерживать от этого? Очевидно, что здесь представляется много соображений. Не говоря о том, что такое волнение, начавшись с такими, всем понятными целями, может привести и к тому результату, что поднимет соседние области; за исход такого движения, особенно когда повсеместно есть некоторые недовольные элементы, никто не может ручаться, даже тогда, когда известны, повидимому, все определяющие обстоятельства. История полна таких неожиданностей, которых вовсе не предвидел никто из наиболее даровитых и знающих современников. Поэтому мы никогда не взяли бы на себя решить вопрос об исходе иначе, как по ознакомлении с местными условиями данного случая и по обсуждении их целым съездом народных деятелей. Но мы указываем на этот вопрос теперь же потому, что им может определяться план действия целой партии. Если бы решено было, что такое местное движение желательно, то, по выборе местности, можно было бы туда направить все наличные силы вместо того, чтобы разбрасывать их по всей России. Поэтому мы выскажем только некоторые соображения, мотивирующие, почему следовало бы поставить этот вопрос, как только знание местных условий различных частей России позволит толковать о нем.
Что такое подавленное местное, да еще социалистское движение, слишком хорошо известно; какие вакханалии разыгрываются вечными кровопийцами народа на трупах всего, что есть честного, смелого, умного в разгромленной местности, — все это позорными клеймами выжжено на животных лицах этих кровопийц. Каким подавляющим гнетом ложится такой разгром на полуравнодушное большинство, — тоже известно. Но известно и то, какою враждою на всю жизнь заставляет он поклясться тех из уцелевших, в ком есть искра человеческой души, незаеденная животными потребами. Известно и то, как раскроет глаза всякому неслепому эта драма, где маски сброшены, и одни давят других со всем остервенением бессильных и подлых, вымещающих свою злобу над сильным и честным, пойманным в капкан. Пусть хоть раз выскажется барство и царь во всей их животной наготе, и реки крови, пролитые в одной местности, не протекут без следа. Без рек крови, социальный переворот не совершится; первые заменят последующие, — лишь бы только первые ослабили наводнение будущих. А, впрочем, эти первые реки, может быть, ручьи, льются уже теперь и непрерывною струей, то сочатся, то льются через все последние десятилетия и, может быть, с нашей стороны было бы даже безумием мечтать о том, чтобы задержать их, и, может быть, для нас нет лучшего исхода, как самим утонуть в первой реке, прорвавшей плотину.
Наши отношения ко всяким партиям довольно ясно определяются из всего сказанного. Мы выскажем их, однако, в нескольких словах.
Прежде всего — наши отношения к Интернационалу. Вести речь о том, примкнуть к Интернационалу, или нет, не в принципах, а на деле, мы считаем теперь невозможным. Пока у нас нет сколько-нибудь сильной организации среди крестьянства и рабочих, всякие наши отношения были бы не деловые, а только личные, но о таких отношениях едва ли стоит рассуждать. Следовательно, [fb2: пропуск при наборе] о том, примкнуть ли или нет к Интернационалу, еще впереди. Мы можем сказать только, что, вследствие громадной разницы строя мышления нашего народа, его склада представлений, его стремлений, с этими свойствами западно-европейских рабочих, вследствие розни языка, наконец, вследствие нашей экономической изолированности, мы не думаем, чтобы в сколько-нибудь близком будущем наши отношения могли бы быть сколько-нибудь тесные и живые, иначе как между отдельными личностями. Нет спора, что в довольно близком будущем всякое социалистское движение на Западе будет отзываться и в нашем народе, всякий крупный успех западных Интернационалистов будет сочувственно и с интересом принят у нас, будет подбодрять и нас; весьма вероятно также, что решения Интернационала будут обсуждаться и у нас, не только цивилизованною молодежью, но и рабочими кружками. Но все это еще не составляет того общения, которое должно существовать между частями одной партии. А такое едва ли скоро может установиться.
Поэтому мы только ограничимся заявлением, что в принципах, как видно из всего сказанного, мы вполне сходимся с отраслью федералистов Интернационала и отрицаем государственные принципы другой.
Что касается до наших русских заграничных партий, то, сходясь в принципах с русскими представителями федералистского отделения Интернационала, мы совершенно отстраняемся от всякого вмешательства в раздоры наших партий, так как они приняли, наконец, личный характер и так как, живя здесь, не можем иметь никакого точного понятия о характере этих раздоров. Относительно их повременных изданий мы должны сказать, что ни одно из них не можем признать органом нашей партии.
Глубоко уважая некоторых представителей нашей русской эмиграции и их деятельность в Интернационале, мы, тем не менее, ни с кем из них не намерены вступать в тесный организованный союз, потому что не видим никакой возможности сделать этот союз реальным. Мы намерены здесь развиваться самобытно, вне всяких руководств заграничных партий, так как полагаем, что никогда эмиграция не может быть точным выразителем потребностей своего народа, иначе как в самых общих чертах, ибо необходимое для сего условие есть пребывание среди русского крестьянства и городских рабочих. Наконец, необходимое условие полного объединения лиц есть возможность находиться в непрерывных, тесных сношениях, — что в данном случае невозможно.
…………………
Идеал в революции
Из незаконченной рукописи 1918 г.
Во всемирной истории выступает один ярко определенный факт. За последние три столетия, через каждые 130–140 лет, в какой-нибудь из европейских стран совершается крупная революция, которая затем на следующие сто с лишним лет (четыре поколения, как говорил итальянский историк Феррари) дает направление прогрессивному развитию мысли.
Отбрасывая более ранний период и начиная с английской революции 1648 года, мы видим, что Англия вплоть до французской революции дает более передовым странам свой лозунг: полная религиозная свобода, право каждого толковать библию, как он ее понимает; развитие свободных местных городских и земских учреждений — приход, как основная земская единица — и конституционный образ правления. Этими лозунгами вдохновляются на той стороне океана молодые английские поселения Северной Америки, а в Европе философия шотландских философов энциклопедистов, а затем и целая страна — Франция.
В 1789 году начинается во Франции ее большая революция, и она не только принимает лозунги, выставленные Англией, но и со свойственной французскому уму логикой, т.-е. последовательностью и систематичностью, она старается провести в жизнь «Права Человека»— т.-е. политическое равенство всех перед законом, уничтожение всех безусловно пережитков феодального и крепостного права, представительный образ правления при всеобщем избирательном праве и, наконец, автономию сельских и городских общин. Эту автономию Франции, впрочем, не удается провести в жизнь, так как ей, с первых же годов революции, приходится вступить в отчаянную борьбу, на жизнь и смерть, со всеми королями Европы, и таким образом перейти на время от демократической республики к империи; точно так же ей приходится выдержать такую жестокую борьбу с католическим духовенством, которое поднимает, при содействии Австрии, германских государств и Англии, целые громадные области против республики и против проводимой ею в жизнь философской религии, в которой высоко-нравственное начало равенства, братства и любви к родине выводилось из созерцания природы и человеческого разума.
Для поверхностного наблюдателя французская революция, где наполеоновская империя скоро заменила республиканский режим, доказала только бесполезность революции; на деле же весь XIX-ый век был осуществлением в Европе начал, провозглашенных французской революцией, равенства всех граждан перед законом, уничтожения пережитков феодального строя и повсеместного введения представительного правления. Эти лозунги французские санкюлоты, а впоследствии даже Наполеон, разносили на своем трехцветном знамени, уничтожая крепостное право в Италии, Испании, германских княжествах и в Австрии, вводя под именем Наполеонова кодекса свод законов, выработанный Конвентом и уничтожавший сословные привилегии, и кладя конец кострам инквизиции в католических странах.
К несчастью, эта волна докатилась до России только тогда, когда во Франции царил уже император, а республиканская армия уже обратилась в сброд самых разноплеменных полчищ.
И вот теперь мировая история наложила на Россию тяжелую задачу выполнить новую революцию, распространяя далее на восток те же права человека и прибавляя к ним наследие XIX века — разрешение социального вопроса, как для крестьянских масс, так и для непомерно разросшегося городского населения и его естественного последствия — пролетариата. Подобно тому, как Франции в своей революции пришлось пойти гораздо дальше Англии, и ребром поставить уничтожение земельного феодализма — оно и было совершено во Франции, — тогда как в Англии он продолжает существовать и до сих пор, точно также России предстоит провести в жизнь среди своего разноплеменного населения не только утверждение «Прав Человека» и уничтожение земельного феодализма, но еще и разрешение экономических вопросов, поставленных перед человечеством в XIX-ом веке. Задача громадная, вероятно, даже непосильная для русского народа, если он в ней не будет поддержан народами Запада, уже совершившими свои две революции, т.-е. Англии и Франции, но совершенно неизбежная при современных условиях экономической жизни.
Задача, стоящая перед Россией еще более осложняется тем, что нам приходится совершать нашу революцию во время жестокой войны, в которую нам приходится воевать не с ничтожными армиями разрозненных немецких княжеств, как это приходилось Франции, а с громадными силами двух империй, обладавших в сложности населением в 120 с лишним миллионов жителей, обладающих высоко развитой промышленностью и воспитанных за последние 30 лет для завоевания и распространения на восток.
Но есть еще одна сторона, ставящая Россию в гораздо худшее положение, чем была Англия и Франция во время своих революций, — и тут требуется от безусловно лучших людей в России самое упорное напряжение сил, чтобы противодействовать разлагающему влиянию этого фактора, которого не знали ни Англия, ни Франция.
Обе эти революции, ставя себе определенные экономические цели, вместе с тем были одушевлены высоким нравственным идеалом.
Английская революция была в значительной мере революцией народной совести. Являясь протестом против разложения католического духовенства, она выставляла строго нравственные идеалы — пуританство. Ее вражда направлялась столько же против разврата двора и высших классов, сколько и против их политического преобладания. Ее воодушевлял нравственный идеал столько же, сколько и идеал политического и экономического равенства.
Точно так же и французская революция ставила себе целью не только уничтожение политических и экономических классовых привилегий, но и проведение в жизнь высшего идеала человеческой взаимности.
Философия XVIII-го века была проникнута идеалом человеческой взаимности, хотя она и выставляла принцип эгоизма, но она понимала эгоизм, как сознание разумной солидарности всех членов общества. И если среди более зажиточных классов проповедь эгоизма Гольбаха в его ограниченном смысле имела успех, то среди рабочих масс любимым философом был Руссо с его проповедью гуманизма и солидарности, высоко нравственного общественного образования. В том же духе шла в то время вся проповедь франк-масонства, к которому принадлежали все сколько-нибудь видные деятели революции и которое дало революции ее лозунг — свобода, равенство и братство.
К сожалению, несмотря на удивительные подвиги самопожертвования, проявленные русскими революционерами в ее подготовительный период, несмотря на высокий общественный идеал, воодушевлявший их, мы видим, что теперь берет верх учение, постепенно просачивавшееся в нашу жизнь за последнее десятилетие — учение об экономическом материализме. Причем это учение понимается не в том смысле, в каком понимали его бланкистские организации Франции, когда они назывались коммунистами-матерьялистами, понимая под этим коммунизм не монашеских общин и парагвайских иезуитов с их колониями рабов, а коммунизм de facto, на деле, дающий всем не только нравственное благосостояние, но и нравственную независимость. В учении экономического материализма, шедшем из Германии, это понимание материализма утратилось.
Смысл, который оно приобретало в учениях последователей Фурье, осмеивался, как утопическое учение, и вместо него брало верх понимание социальной революции, как разнузданность единичных вожделений в смысле каких-нибудь штирнерианцев или ницшеановских сверхчеловеков низшего сорта. В этом отсутствии высокого, вдохновляющего идеала русской революции лежит все различие между нею и ее предшественницами. Остается одно — жить надеждой, что такой характер революция приняла только под тлетворным влиянием последних годов самодержавной вакханалии и что здравый смысл русского народа возьмет верх и избавится от этой язвы, которая грозит обессилить русскую революцию и сделать ее бесплодной.
П. А. Кропоткин.
Князь П. А. Кропоткин
«Справка» департамента полиции[7]
Князь Кропоткин, Петр Алексеевич. Родился в 1842 г. в г. Москве. С 1862 г. по 1867 г. служил офицером в Амурском казачьем войске. С 1867 по 1871 г.г. проживал в С.-Петербурге, где изучал математику; в то же время занимал место секретаря географического общества, по поручению которого в 1871 году исследовал глетчеры Финляндии и Швеции. В 1872 г. Кропоткин отправился в Бельгию и Швейцарию, где примкнул к «Международному Обществу Рабочих» («Интернационал»), но в том же году вернулся в Петербург. В 1873 году Кропоткин стал одним из выдающихся членов и казначеем образовавшегося тайного «кружка чайковцев». Он издавал революционные брошюры и, сблизясь с рабочим людом, старался вселить в нем убеждение в необходимости революции и уничтожения как верховной власти, так и всего дворянства. В 1874 г. Кропоткин был арестован и заключен в Дом предварительного заключения, а затем переведен в Николаевский военный госпиталь, откуда 30 июня 1876 г. при содействии Софии Лавровой и властей госпиталя бежал.
Скрывшись за границу, Кропоткин поселился в Швейцарии под фамилией Левашова. В 1881 году он был изгнан из пределов этой страны за социалистические происки и за участие 18 марта того же 1881 года в Женеве в собрании социалистов с целью отпраздновать злодейское убийство 1 марта и память французской Коммуны, на каковом собрании было поставлено выразить сочувствие цареубийцам и составлен был протест по поводу казни преступников.
В ноябре 1881 г. Кропоткин поселился в Лондоне, но в декабре месяце того же года вернулся в один из городков, расположенных на французском берегу Женевского озера, где и был тогда же арестован по обвинению в участии в анархическом движении во Франции. Приговором Лионского суда от 7 января 1883 года Кропоткин был присужден к тюремному заключению на 5 лет с отдачею затем под надзор полиции сроком на 10 лет. Впоследствии Кропоткин был освобожден, после чего поселился в Лондоне, где вместе с Чайковским и Войничем состоял хранителем фонда вспомоществования русским политическим эмигрантам.
В марте 1896 года Кропоткин прибыл в г. Диепп, но, ввиду последовавшего 20 февраля 1896 г. воспрещения ему жительства в пределах Франции, он был удален обратно в Англию. В 1897 г. он ездил в Нью-Йорк, где в октябре месяце читал лекции об анархизме, а затем вернулся обратно в Лондон, где вошел в состав образовавшейся там группы русских анархистов. С этого времени Кропоткин стал усиленно работать на почве распространения идей анархизма за границей, написав целый ряд сочинений по анархизму и став творцом собственной теории анархизма. Его учение об анархическом коммунизме выражено в сочинении «La conquête du pain» («Завоевание хлеба»).
Из произведений Кропоткина обращают на себя внимание, кроме названного выше, следующие:
1) «Записки революционера», 2) «Русская революция», 3) «Экспроприация». Помимо этого Кропоткиным написано множество небольших брошюр, газетных статей и рефератов.
С 1903 года Кропоткин принял ближайшее участие в издании органа заграничной анархистской группы «Хлеб и Воля», явившегося выражением его же учения, а, по прекращении этого издания в 1906 году, стал принимать непосредственное участие в издании «Листков Хлеба и Воли», которые стали выходить исключительно благодаря его инициативе.
В настоящее время Кропоткин проживает в г. Лондоне, продолжая принимать весьма деятельное участие в делах русских заграничных анархистских групп.
Возбужденное в 1874 году уголовное преследование по обвинению Кропоткина в принадлежности его к противоправительственному сообществу, присвоившему себе наименование «кружка чайковцев», на точном основании ст. 68 п. 2 Уголовного Уложения, ныне не может быть возобновлено. Равным образом Кропоткин не может подлежать уголовной ответственности за издание им в позднейшее время вплоть до 17 октября 1905 г. сочинений революционного содержания, ибо составление и распространение таких произведений предусмотрено ст. 129 того же Уложения и виновные в означенном преступлении, совершенном ими до 17 октября 1905 г., в силу п. 1 Именного Высочайшего Указа 21 октября 1905 г., подлежат прощению. Ввиду же того, что, кроме описанных преступлений, Кропоткин ныне изобличается еще в принадлежности к образовавшейся за границей группе «анархистов», поставивших своею задачею насильственное изменение существующего в Империи государственного строя, т.-е. в преступлении, предусмотренном ст. 102 Угол. Уложения, то против Кропоткина, в случае возвращения его в Россию, должно быть возбуждено уголовное преследование по упомянутой выше 102 ст. Угол. Улож.
П. А. Кропоткин на государственной службе
Справка.
Служебная карьера «состоявшего при министерстве внутренних дел титулярного советника, князя Петра Алексеевича Кропоткина» закончилась в России весной 1872 года. 11-го мая он подал в департамент общих дел этого министерства докладную записку следующего содержания: «Не имея более возможности, по домашним обстоятельствам, продолжать службу, имею честь покорнейше просить департамент общих дел сделать зависящее распоряжение об увольнении меня от службы и о выдаче мне узаконенного аттестата. С.-Петербург, 11 мая 1872 года. Титулярный советник, князь Петр Кропоткин. Жительство буду иметь в Москве, у Зачатьевского монастыря, в доме Кравченко».
Ниже мы воспроизводим в полной орфографической неприкосновенности тот «аттестат», о выдаче которого, уходя в отставку, просил Кропоткин и который в дальнейшем служил ему паспортом. Аттестат отмечает все служебные этапы Кропоткина в той форме, в какой обычно составлялось curriculum vitae каждого военного и гражданского служащего. Он составлен на основании «Дела № 256 об определении на службу с причислением к оному (sic) отставного титулярного советника князя Крапоткина (в официальных бумагах его фамилия писалась через „а“) и с откомандированием в центральный статистический комитет», (дело № 256 департамента общих дел министерства внутренних дел; отделение II, стол 2; началось 4 ноября 1868 г., решено 25 сентября 1873 г., на 45 листах.)
Военную службу (в Сибири) Кропоткин закончил в январе 1868 года, когда в чине эсаула[8] «высочайшим приказом был уволен от службы по домашним обстоятельствам для определения к статским делам с переименованием в титулярные советники». Восстание поляков, работавших на Кругобайкальской дороге и жестоко усмиренных войсками, явилось последней каплей, переполнившей оппозиционное настроение Кропоткина, и он, «убедившись, — как говорит в своих „Записках революционера“, — в том, что значит, так или иначе, принадлежать к армии», вместе с братом своим Александром решил расстаться с военной службой и уехал в Петербург, где поступил на математическое отделение физико-математического факультета.
Одновременно с этим Кропоткин был зачислен по министерству внутренних дел с откомандированием для занятий в центральный статистический комитет, — на службу, повидимому, номинальную, но связанную с личными научными работами Кропоткина. Служба Кропоткина не стесняла, и он о ней в своих «Записках» даже почти не упоминает. Часто он ездит в отпуск, что и отмечено в его аттестате. В 1869 году он ездил в Калужскую губернию, очевидно, в отцовское имение Никольское, Мотовского уезда. В 1870 году он опять ездил в ту же губернию и в Москву, где жил его отец. В 1871 году императорское русское географическое общество предложило ему экскурсию, «скромную», — как называет ее Кропоткин, — в Финляндию и Швецию для исследования ледниковых отложений. Кропоткину дан был неопределенный — «в течение нынешнего лета» — отпуск, и он уехал в Финляндию вместе с геологом генералом Г. П. Гельмерсеном и исследователем Сибири Фридрихом Шмидтом. Трое путешественников вскоре разделились, и Кропоткин уже один объездил значительную часть Финляндии, переправился в Швецию, где изучал Упсальский оз, и провел в Стокгольме «несколько счастливых дней вместе с Норденшильдом». Затем Кропоткин вновь вернулся в Финляндию, но, вызванный по телеграфу из Москвы, где умирал его отец, проехал в древнюю столицу. Из Москвы, куда он попал только к отпеванью отца, он обратился в министерство с просьбой о разрешении ему по случаю кончины отца 7 сентября отпуска в Московскую, Калужскую и Тамбовскую[9] губернии, ходатайствуя о вручении документа об отпуске для отсылки в Москву невестке своей, княгине Вере Кропоткиной.
4-го февраля 1872 г. Кропоткину дан был заграничный отпуск на 28 дней, и он получил заграничный паспорт в Москве (от 11 февраля 1872 г.; та же дата в паспорте и на явке при отъезде в Вержболове). Эта поездка оказала решительное влияние на политическое и социальное миросозерцание Кропоткина, и он вернулся из-за границы, — как сам он определяет, — «с определенными социалистическими взглядами» и ворохом запрещенных книг и газет, которые ему удалось переправить через границу при помощи контрабандистов. 3 мая 1872 года он переехал границу и тотчас отправился в Петербург, где начинается уже новая эпоха в жизни Кропоткина.
«Вскоре после моего возвращения из-за границы, — рассказывает он в своих „Записках“, — Дмитрий (Клеменц) предложил мне вступить в кружок, известный в то время среди молодежи под названием кружка Чайковского». В связи с этим 11 мая он и подал прошение об отставке.
Представление в Правительствующий Сенат о производстве за выслугу лет князя Кропоткина в коллежские асессоры со старшинством с 1 ноября 1871 года было уважено, согласно указу сената по департаменту герольдии от 17 августа 1872 года.
За производство в этот чин, по закону, с Кропоткина полагалось пошлины 26 р. 10 коп. Требование об уплате этих денег настигло Кропоткина только через год в Москве.
Печатаемый ниже аттестат выдан за подписью министра внутренних дел Тимашева. В качестве характерного образца бюрократического самовеличания оставляем в полноте весь тот титул, который очевидно с любовию созерцал, при подписывании бумаг, честолюбивый министр. В оригинале, писанном от руки, этот титул помещен на особом печатном листке-трафарете, который приклеен в конце оригинала.
Ред.
…………………
АТТЕСТАТЪ.
Предъявитель сего Титулярный Совѣтникъ Князь Петръ Алексѣевичъ КРАПОТКИНЪ, какъ видно изъ формулярнаго о службѣ его списка происходитъ изъ князей, Московской губерніи, двадцати девяти лѣтъ отъ роду, вѣроисповѣданія православнаго, кавалеръ ордена Св. Станислава 3 ст., холостъ, имѣнія ни за родителями, ни за нимъ никакого не состоитъ. Назначенъ въ Пажи къ ВЫСОЧАЙШЕМУ ДВОРУ 1849 г. Апрѣля 11; опредѣленъ въ Пажескій ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА корпусъ 1857 г. Августа 25, Камеръ Пажемъ 1861 г. Іюля 16-го, Фельдфебелемъ 1861 г. Іюля 19 го, произведенъ по экзамену въ Сотники, съ опредѣленіемъ въ Амурское Казачье войско тысяча восемьсотъ шестьдесятъ втораго Іюня тринадцатаго; прибылъ и назначенъ въ распоряженіе исправлявшаго должность Наказнаго Атамана Забайкальскаго Казачьяго войска по Амурскимъ сплавамъ 1862 г. Сентября 8; Былъ въ командировкѣ по Амурскимъ сплавамъ съ 10 Сентября 1862 г. по 30 Сентября 1863 г., назначенъ, по распоряженію Начальника, Чиновникомъ особыхъ порученій VI Отдѣленія Главнаго Управленія Восточной Сибири по казачьимъ войскамъ 1863 г. Октября 4-го; утвержденъ въ этой должности приказомъ по Военному Министерству, отданнымъ по иррегулярнымъ войскамъ 1863, г. Декабря 22; За отличную усердную службу, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ награжденъ орденомъ Св. Станислава 3 степени 1864 г. Іюля 26; по распоряженію Начальства командированъ 7 Апреля 1864 г. въ Приамурскій край, по дѣламъ до того края относящимся, гдѣ и находился до Сентября мѣсяца того же года; за отличіе по службѣ, произведенъ въ Есаулы 1866 г. Іюля 22-го; ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ по военному ведомству уволенъ отъ службы по домашнимъ обстоятельствамъ для опредѣленія къ статскимъ дѣламъ, съ переименованіемъ въ Титулярные Советники 1868 г. Января 4-го; Приказомъ по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 8 Ноября 1868 г. за № 45, опредѣленъ на службу въ cie Министерство съ причисленіемъ къ оному и съ откомандированіемъ для занятій въ Центральный Статистическій Комитетъ съ 1868 г. Ноября 1-го; ИМПЕРАТОРСКИМЪ Русскимъ Географическимъ Обществомъ командированъ въ Іюнѣ 1871 г. для геологическихъ изслѣдованій, въ Финляндію и Швецію. Приказомъ по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 14 го Мая 1872 года за № 20-мъ, уволенъ отъ службы, согласно прошению, по домашнимъ обстоятельствамъ съ одиннадцатаго того же Мая. О производствѣ Князя Крапоткина, за выслугу лѣтъ, въ Коллежскіе Ассесоры, съ надлежащимъ старшинствомъ, будетъ внесено представленіе въ Правительствующій Сенатъ, по Департаменту Герольдіи. Въ походахъ, штрафахъ, подъ судомъ и слѣдствіемъ не былъ. Въ отпускахъ былъ въ 1869 г. съ 31 Іюля на 28 дней, явился 10 Сентября того же года; въ 1870 году съ 10 Іюля на 28 дней, явился 1-го Сентября того же года; въ 1871 году съ 18 Сентября на 28 дней, явился 8 Ноября 1871 года, причина просрочки сего отпуска, по случаю смерти отца Князя Крапоткина, признана Начальствомъ уважительною, и въ 1872 г., съ 4-го Февраля въ Россію и за границу на 28 дней, изъ котораго явился 10 сего Мая. Въ отставкѣ былъ съ 4 Января по 1-е Ноября 1868 г. Случаямъ, лишающимъ права на полученіе знака отличія безпорочной службы не подвергался. Въ удостовѣреніе вышеизложеннаго и данъ сей аттестатъ Титулярному Совѣтнику Князю Крапоткину, за моимъ подписаніемъ и приложеніемъ герба моего печати. С.-Петербургъ. Мая 18 го дня 1872 года.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Всемилостивѣйшаго ГОСУДАРЯ моего, Генералъ-Адъютантъ, Генералъ отъ Кавалеріи, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, Президентъ Общества Попечительнаго о Тюрьмахъ и состоящаго при ономъ Комитета для разбора и призрѣнія нищихъ, и Орденовъ: Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, Бѣлаго Орла, Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра 2-й степени, Св. Анны 1-й степени съ мечами надъ орденомъ, C-в. Станислава 1-й степени, Иностранныхъ: Датскаго Ордена Данеброга Большаго Креста, Шведскаго Большаго Креста Ордена Меча и Императорско-Австрійскаго Командорскаго знака Ордена Леопольда Кавалеръ; имѣющій медали: золотую за труды по освобожденію крестьянъ, серебряную за усмиреніе Венгріи и Трансильваніи въ 1849 г., бронзовую въ память войны 1853–1856 г.г., зн. отл., учрежд. 24 Ноября 1866 г. въ память поземельнаго устройства государственныхъ крестьянъ, Кавказскій крестъ и знакъ отличія безпорочной службы за XV лѣтъ (Подписалъ) Тимашевъ.
Директоръ Департамента Общихъ Дѣлъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
(Скрѣпилъ) Мансуровъ.
Вѣрно: Столоначальникъ (Подпись).
П. А. Кропоткин и русское правительство в 1875 году
I.
«— Как это возможно, Кропоткин, чтобы ты, камер-паж, бывший фельдфебель, мог быть замешан в таких делах, и сидишь теперь в этом ужасном каземате?
— У каждого свои убеждения.
— Убеждения? Так твое убеждение, что нужно заводить революцию?»[10]
Такой разговор происходил в 1874 году между Кропоткиным и великим князем Николаем Николаевичем, братом императора Александра II. Великий князь посетил казематы Петропавловской крепости и счел нужным зайти к своему старому знакомому, одному из блестящих представителей русской родовой знати из Рюриковичей, «Рюрикович», однако, принял великого князя более, чем холодно, и брат царя ушел недовольный, резко отвернувшись от отщепенца, предпочевшего золотому блеску императорского двора холодную, бездомовую и скитальческую жизнь русского революционера.
Великий князь своим недоуменным вопросом выразил не только личное свое смущение пред странным фактом преображения аристократа высшего ранга в боевого народника, агитатора и пропагандиста среди рабочих и народа. Брат царя отражал, несомненно, и настроения высших правительственных кругов, растерявшихся пред новым массовым явлением — революционным движением, в круговорот которого попали лица всех общественных положений, не исключая и высших. Еще больше, однако, правительство было смущено той программой, которую поставило себе это движение, программой широкой, всесторонней, потрясавшей все основы и выворачивавшей, выкорчевывавшей все старые социальные корни и создававшей новый общественный строй. Это был не политический заговор, не антидинастическое движение в верхнем домашнем кругу придворной знати. Это была социальная война, впервые объявленная русскому правительству и русскому политико-общественному строю.
И эту программу правительство обрело не у кого иного, как у князя, стоявшего столь близко к придворным сферам… Княжеская «Записка» и княжеская «Программа революционной пропаганды» точно открыли глаза правительству на смысл и разум движения, на его душу и практические замыслы. И можно себе представить, поэтому, то впечатление, какое было произведено в «верхах» русской жизни, когда два замечательных документа оказались в руках жандармской власти, немедленно доложившей о том царю…
В первое время это впечатление можно было охарактеризовать, как полную растерянность. Недаром же эти важные и многоговорящие документы хранились в столь глубокой тайне, что даже члены комитета министров открыто, в официальном заседании, жаловались на полнейшую свою неосведомленность относительно революционного движения и его программ и заданий.
Но революционное движение росло и множилось, загадочные волны новых социальных потрясений быстро надвигались на власть и пришлось волей-неволей серьезно призадуматься над вихрем событий и над средствами, которые могли бы застраховать власть от потрясений, к которым, ходом истории, дом Романовых сделался принудительно-чутким.
И высшее правительство решило прибегнуть к «общему совету», но кого, кроме своих же министров, могло оно привлечь к этому государственному обсуждению? Обреченное всем своим бытием на изолированное от общества и народа существование, оно только в тесном кругу своем могло искать коллективного разума и спрашивать у него совета.
И по высочайшему повелению, согласно доклада главного начальника III отделения собственной его императорского величества канцелярии генерал-адъютанта Потапова, комитету министров предложено было обсудить общий вопрос о революционном движении 1874–1875 г.г., ознаменовавшемся хождением в народ и пропагандой «самых крайних разрушительных учений».
Комитет министров занялся этим вопросом в марте месяце 1875 года, когда Кропоткин томился в Петропавловской крепости. Вряд ли молодой революционер мог предполагать, каким содержательным революционным символом сделалось в это время его имя в правительственных сферах. Можно сказать, что фамилия Кропоткина не сходила с тех в высшей степени секретных и важных бумаг, которые составлялись и писались в качестве материалов для суждения в комитете министров.
II.
Дело началось с всеподданнейшего доклада главного начальника III отделения генерала Потапова, сделанного им в конце февраля или начале марта 1875 года. В своем представлении комитету министров от 4 марта этого года генерал Потапов пишет:
«Процесс соумышленников Нечаева и некоторые другие, менее значительные, дела, дознания по которым производились в III отделении собственной его императорского величества канцелярии, ясно указывали, что революционное движение в России приняло в последние годы новое направление. Отрешившись от исключительно политической программы, вожаки революционной партии выдвинули на первый план вопросы экономические и главною задачей своею поставили сближение с народом и распространение в его среде крайних социалистических и коммунистических теорий».
С этого момента Кропоткин точно незримой революционной тенью входит в мысли и рассуждения государственных людей и его имя и произведения его революционного пера становятся уже неизбежной принадлежностью всех последующих документов.
Новый оборот революционного движения в России начальник III отделения доказывает теми «вещественными доказательствами», которые были найдены при последних арестах. Это — программы революционных партий. На первом месте «краткая программа социальной пропаганды», найденная у Сергея Синегуба. Но на ней ген. Потапов совершенно не останавливается. Зато он подробно излагает вслед за тем содержание «Записки» и «Программы», обнаруженных у князя Кропоткина. Эти материалы, в связи со всем ходом революционного движения, дают начальнику III отделения основание для последующих выводов.
«Ряд дознаний, произведенных в последние месяцы, — пишет в своем представлении ген. Потапов, — приводит к убеждению, что эта революционная программа (Кропоткина) неуклонно применяется на деле многочисленными агитаторами, рассеявшимися по всей империи и везде идущими одним и тем же путем. Как руководство и пособие к этой преступной деятельности, создалась особая литература народных книг и брошюр, грозящая извратить здравый смысл народа и подорвать в нем преданность царю и доверие к правительству. И не только заграничные и подпольные издания служат этой преступной цели: рядом с ними распространяются нередко книги, даже разрешенные цензурой, которая затрудняется, сквозь условную фразеологию, понять истинный смысл и назначение, повидимому, невинного произведения.
Возникшее в половине прошлого года дело о пропаганде, порученное, по высочайшему повелению, генерал-лейтенанту Слезкину, осязательно указывает, какие размеры приняло социально-революционное движение и какою серьезною опасностью грозит оно в близком будущем. Дознание показало, что зло более глубоко, нежели можно было предполагать. Разрушительные теории социализма охватили не отдельные кружки, но — можно сказать — почти целую генерацию. Пропаганда ведется не в одной или нескольких местностях, но повсеместно, и — что особенно важно — везде по одной и той же программе, одними общими средствами. Число лиц, привлеченных к дознанию, достигает уже до двух тысяч и ежедневно возрастает: из них было подвергнуто аресту более 450 человек, против которых собраны особенно важные улики; но многие ускользают от преследования вследствие неуловимости самых признаков совершаемого ими преступления[11].
Вообще надо заметить, — продолжает ген. Потапов, — что принятая в настоящее время революционною партиею система пропаганды представляет так мало юридических улик и вообще внешних проявлений, что большею частию ускользает от судебного преследования; меры полицейские и административные точно также оказываются бессильными к предупреждению и пресечению преступной деятельности осторожного агитатора. Только решительное и открытое противодействие общественного мнения, поддерживаемого и направляемого всеми охранительными элементами русской жизни, могло бы ослабить прогрессивно возрастающее зло и положить пределы его распространению».
Идею необходимости искать поддержки у общественного мнения ген. Потапов, повидимому, заимствовал у министра юстиции графа Палена, который в начале марта того же года обратился к старшим председателям и прокурорам судебных палат с письмом о «необходимости своевременного отпора разрушительным учениям», не только в официальной, но и в частной жизни[12].
На это письмо и ссылается далее в своем представлении ген. Потапов и сообщает, что Александр II повелел обсудить вопрос, не представляется ли желательным и полезным, чтобы все министры и главноуправляющие дали подобные же указания по их ведомствам.
К своему представлению ген. Потапов приложил копию письма министра юстиции, «Записку», «найденную в бумагах князя Кропоткина», и «Программу революционной пропаганды», «составленную князем Кропоткиным».
Кропоткин, как он и сам рассказывает об этом в своих «Записках революционера», отказался на предварительном следствии от дачи каких бы то ни было показаний. Поэтому авторство Кропоткина в составлении «Программы», вероятно, было установлено экспертизою почерков. Что касается «Записки», то III отделение установило лишь в процессе дальнейшего производства дела о пропаганде (дело 193-х) принадлежность ее также перу Кропоткина, о чем обвинительный акт по этому делу говорит вполне категорически.
III.
Таким образом, дело возникло на основании тех материалов, какие были даны исключительно Кропоткиным. Только благодаря двум его произведениям, правительство принуждено было выйти из рамок III отделения и взглянуть на вопрос в возможной для него государственной полноте.
Министр юстиции граф Пален не ограничился, однако, только своим письмом, как актом самозащиты против революционного натиска. Он составил свое обозрение или записку о развитии революционной пропаганды[13] и внес ее в комитет министров к моменту открытия его заседаний. Эта записка ставила вопрос уже в более глубокой перспективе и, таким образом, первоначальное предположение «о пользе» аналогичных письму графу Палена «указаний» со стороны всех прочих министерств и ведомств расширилось. И в первом заседании комитета министров (18 марта 1875 г.) ген. Потапов сообщил о высочайшем повелении «обсудить, не представляется ли вообще необходимым и полезным принять и какие-либо другие меры с целью уменьшения влияния обнаружившейся деятельной пропаганды пагубных лжеучений».
Таким образом, комитет министров, на заседание которого, по высочайшему повелению, был приглашен бывший шеф жандармов, генерал-адъютант граф Шувалов, получил возможность обсудить вопрос о революционном движении во всей его всесторонности и с точки зрения не ведомственной, а широко-государственной. Как говорят теперь, комитет получил «боевое задание», — и, другими словами, на этом вопросе он должен был обнаружить всю силу своего государственного разумения и наличность государственной мысли.
И в этом отношении «особый журнал комитета министров по предмету обнаруженного распространения в обществе разрушительных учений»[14] представляет не малый интерес. Он является типичным образцом бюрократического мышления, которое, соприкасаясь с таким крупным и все шире и шире развивавшимся явлением, как революционное движение, шло неизбежно по своему шаблонному уклону — самозащиты на старых политических позициях во что бы то ни стало, путем хотя бы логических абсурдов, хотя бы явных нелепостей и противоречий; страха пред угрозой перехода на новые точки зрения, чуждые до того самодержавному образу мыслей, опасения раздвинуть в жизненной перспективе факты и данные и взглянуть на них со стороны социальных и бытовых условий, а не только со стороны неприкосновенности старого и ветхого уклада жизни.
В особом журнале воспроизведено вышеприведенное представление ген. Потапова с кратким, но содержательным изложением «Записки» и «Программы» князя Кропоткина. Но этого комитету министров естественно показалось мало и в особом журнале, с 12 по 24 страницу, вновь и самым подробным образом излагаются все революционные мысли крамольного князя, с приведением подлинных из этих документов цитат. Принимая во внимание, что журнал излагает и записку графа Палена о развитии революционной пропаганды, в которой имя Кропоткина и его идеи упоминаются весьма часто, имея в виду, что и в резолютивной части комитет неоднократно ссылается на Кропоткина, можно естественно сделать заключение о необычайном «успехе» молодого анархиста в правительственных сферах.
IV.
Комитет министров, при обсуждении предложенного ему вопроса, «пришел к убеждению, что размеры пропаганды разрушительных теорий и самые приемы оной, сообразованные с расчетом на заражение зловредными учениями классов общества, наименее развитых, вызывают необходимость особо серьезного отношения правительственных органов к делу противодействия гибельным для всякого порядка началам».
Комитет обратил внимание на справку, приведенную гр. Шуваловым и касающуюся 1866 года, когда дознаниями было обнаружено существование социалистических кружков только в Петербурге и Москве. Ныне, «несмотря на все принимавшиеся в течение прошедших 9 лет меры, разветвления революционной партии захватили более, чем 30 губерний», что «неоспоримо доказывает недостаточность означенных мер» и «необходимость более систематического противодействия анархическим стремлениям».
Перейдя к обсуждению практических форм борьбы с революционным движением, комитет министров одобрил обращение министра юстиции к старшим председателям и прокурорам палат. «Чины сии, — говорит комитет, — по их образованию и самостоятельному положению, пользуются естественным образом исключительным в среде губернского общества авторитетом и если они, вследствие обращенного к ним министром юстиции приглашения, подымут голос свой в осуждение вредных и разрушительных начал и сочувственно отнесутся к мерам строгости, неизбежным в видах пресечения пагубных лжеучений, то отзывы их могут оказать благотворное влияние на направление общественного в губерниях мнения».
Комитет министров, вполне понятно, отнесся положительно к письму графа Палена, тем более, что такой акт со стороны министра юстиции заслужил уже высочайшего одобрения. Но, переходя к вопросу об аналогичных письмах и обращениях к служащим других министерств и ведомств, комитет не мог не остановиться в затруднении и принужден был признать, что протест против революционной агитации «со стороны чинов полиции», как и вообще чиновников, «не мог бы иметь для общества существенной авторитетности». А обращение военного и морского министров с таким ведомственным циркуляром могло бы «внести сомнение и смуту в военную среду», в которой, по данным III отделения, относительно революционной пропаганды все обстоит благополучно, потому что, по заявлению ген. Потапова, среди привлеченных за пропаганду не имеется лиц, состоящих на действительной военной или морской службе…
Конечно, идея борьбы с революционным движением путем циркулярных писем и посланий министров — довольно нелепа. Но нельзя не отметить, что ген. Потапов давал заведомо неверные сведения о благополучии в военной среде. К его представлению в комитет министров, между прочим, приложена справка на листке почтовой бумаги небольшого формата без подписи и даты об отставных военных, привлеченных к делу о революционной пропаганде. Но все это была офицерская молодежь, только что вышедшая в отставку ради облегчения себе более свободной возможности революционной деятельности[15]. Таким образом, справка ген. Потапова должна быть отнесена к обычному разряду официальной лжи, практиковавшейся ради создания иллюзии всеобщего благополучия.
Но, как бы то ни было, комитет министров не одобрил всеобщей министерской пропаганды против социализма и коммунизма. Тем не менее принципиально комитет не мог не подойти к пункту, который подсказывался логикой и жизнью даже твердокаменным бюрократическим умам.
Комитет министров не мог не остановиться пред тем фактом, что общество совершенно не реагирует на революционную пропаганду в смысле борьбы с ней. Комитету министров представляется вся система учения революционеров нелепой, дикой, бредом фантазии. Тем не менее комитет констатирует со стороны общества или молчание, или же даже содействие, о котором гр. Пален говорит в своей записке весьма доказательно.
Глубоко вникнуть в это явление значит перейти самодержавный Рубикон и начать пересмотр всей правительственной политики с точки зрения жизненных интересов и нужд. На это комитет, конечно, не способен. Но он слепо, ощупью бродит около идеи свободы печати, которая в целом представляется ему каким-то чудищем, но в частности создает некоторые просветы: ведь письмо графа Палена относится к категории тех явлений, которые проистекают из потребности в свободном слове, в свободной борьбе идей, как бы министерское письмо ни было далеко от такой исходной точки зрения.
И, подходя к этому просвету, комитет не может не обратить внимания на то, что обществу совершенно неведомы прежде всего размеры столь зловредной, хотя и нелепой, революционной пропаганды. Комитет указывает на «всеобщую неизвестность» в этом отношении. Ничего не знает и широкая «публика» и «чины высшего государственного управления», — «в том числе и большинство членов комитета министров»!
Сделав этот легкий укол III отделению, комитет начинает колебаться между правильной мыслью о роли общественного мнения и соединенной с нею свободы печати и — самодержавной старозаветностью, не позволявшей никаких компромиссов с общественностью и свободой.
«По мнению комитета, при такой неизвестности нельзя ставить прямым укором обществу отсутствие серьезного отпора лжеучениям, нельзя ожидать, чтобы лица, не ведающие той опасности, которою лжеучения сии грозят общественному порядку, могли столь же энергически и решительно порицать деятельность революционных агитаторов».
Такую неосведомленность комитет признает даже вредной, потому что она вызывает «конечно, в большинстве случаев, легкомысленные упреки правительству за принимаемые меры преследования злоумышленников и их аресты, приписываемые часто одному лишь произволу администрации и возбуждающие обыкновенно сострадание к арестуемым и разыскиваемым лицам».
«Между тем, по глубокому убеждению комитета, едва ли положенная в представленной генерал-адъютантом Потаповым записке одного из передовых деятелей агитации Кропоткина картина будущности, которую революционные пропагандисты готовят настоящему поколению, могла бы возбудить какое-либо сочувствие не только в благонадежных общественных сферах, но даже в натурах неразвитых и склонных к экзальтации. Сами составители записки и программы пропаганды это чувствуют и постоянно указывают на необходимость для успеха дела скрывать его конечные цели».
Повторяя далее положения кропоткинской «Записки», комитет приходит к убеждению, что «подобный бред фанатического воображения не может возбудить к себе сочувствия, но для того, чтобы общественное мнение отвратилось от провозвестников такого учения, начала этого учения не должны оставаться во мраке».
Итак, вывод ясен: для борьбы с лжеучениями необходимо предоставить обществу возможность в полноте знакомиться с сущностью этих лжеучений, что естественно мыслимо лишь при свободе печати. Но импотентная в государственном отношении мысль бюрократов отходит немедленно назад при первом признаке свободы, и комитет соглашается лишь с тем, что необходим непременно гласный разбор в судах всех политических дел. Борьба с новыми судебными установлениями не началась еще в той жесткой форме, в какой она завязалась впоследствии. В судебной гласности еще видели одно из средств борьбы с преступностью, и закрытие дверей суда не сделалось еще особенностью нашей Фемиды, у которой пока не отнимались политические дела, хотя III Отделение в упомянутом представлении комитету уже делает основательный намек на недостаточность и бессилие судебной репрессии в борьбе с революционным движением.
Признав необходимым гласный суд над политическими преступлениями, комитет тотчас встретился с большим затруднением: борьба с социальными лжеучениями при помощи гласности в судах необходима, но предварительное следствие тянется по такого рода делам слишком долго, а между тем необходимо вырывать корни тлетворных идей благовременно. И комитет ввиду этого находит необходимым «повременное опубликование добытых производящимся исследованием данных и фактов», но тотчас же, обуреваемый основательным страхом, как бы такие публикации не повредили делу, подчеркивает, что подобное опубликование должно производиться «с крайней осторожностью, дабы не послужить оружием в руках агитаторов к вящему распространению их учений». Ясно, что в подобного рода делах единственно компетентным учреждением является третье отделение, и комитет, поэтому, предоставляет начальнику этого отделения и министрам юстиции и внутренних дел, — это для декорации, — всю литературную часть деятельности по борьбе с революционным движением.
Таким образом, просвет свободы печати отшатнул тотчас же государственных людей 1875 года, — и она оказалась замененной казенными «правительственными сообщениями», успех которых в русском обществе был всегда вполне определенным.
V.
Еще один просвет обнаружился в комитете министров.
Генерал-адъютант Грейг внес в комитет предложение «о необходимости изучения тех причин, коими вызывается периодическое проявление деятельности революционной пропаганды и обусловливается возможность успехов ее в известных местностях России и в тех или других слоях общества».
Вопрос был поставлен правильно, и создавался единственный путь, идя которым можно было бы добраться до каких-либо конкретных, хотя бы, — при бюрократическом мышлении, — и микроскопических результатов. Но комитет министров либо разумно, но с точки зрения консервативной опасливости, либо просто неразумно сразу же смял и скомкал предложение ген. Грейга. Он отнесся к нему одинаково как и к сделанным в заседании заявлениям статс-секретаря Валуева, ген. — ад. гр. Шувалова, ген. Потапова и Посьета о необходимости противопоставить системе революционной пропаганды систему правительственного на нее воздействия, — точно между этими двумя предложениями было что-либо общее. В ту же «кучу» комитет свалил и предложение ст.-с. Валуева о необходимости для духовенства и школы «служить опорой здравых государственных начал».
И комитет министров, боясь затронуть наши неблагополучия (по совету Щедрина, предостерегавшего от этого, так как, тронув одно неблагополучие, придется затрагивать и бесконечное количество следующих за первым), решил отделаться общими фразами от предложения ген. Грейга, уклонившись от рассмотрения вопроса по существу.
Комитет признал, что, «с одной стороны, вследствие обширности и многосложности возникающих задач, образование особой комиссии для изучения причин обсуждаемых явлений не может быть признано соответствующим предположенной цели и состоянию еще не вполне разъясненного дела. Уяснение причин, почему та или другая местность в России оказывается восприимчивою к проповедываемым революционным идеям, какие условия народной жизни содействуют успехам пропагандистов и дают им надежду на колебание в народных массах верности религии и престолу, — словом, расследование государственного и общественного строя русского народа составляет задачу столь сложную, что, очевидно, превышает силы нескольких лиц. С другой стороны, комитет, сознавая всю силу и важность влияния духовенства и школы на правильное развитие духовных и нравственных народных качеств, находят, что усиление такого влияния может достигнуто быть лишь в более или менее отдаленном будущем и что, сознав эту цель, необходимо стремиться к ней последовательно и неуклонно».
Но чтобы не вызвать упрека в игнорировании общеполитических мер, что, повидимому, имел в виду ген. Грейг, комитет министров пошел навстречу предложению министра внутренних дел, выразившего надежду, что все министры сочтут своим долгом «направить все усилия свои к разработке тех мер, кои могли бы содействовать развитию общего в государстве благосостояния и уврачеванию раскрытых в народной жизни язв». Но, — торопится прибавить комитет, — сваливая со своих плеч непосильную тяжесть разрешения сложной задачи, — такие меры должны разрабатываться в каждом отдельном министерстве…
Так комитет министров и покончил с вопросом о борьбе с революционным движением. Кроме единственной практической меры, — «правительственных сообщений» — комитет придумать ничего не мог, но зато проявил некоторую ловкость, правда, медвежью, старательным обходом всех щекотливых вопросов, которые были естественно и органически связаны с развитием революционного движения. Комитет подходил, хотя издали, к корням исторического явления и соприкасался и с вопросами свободы печати, пропаганды и общественного мнения, и анкеты о причинах революционного движения и связи его с благосостоянием народных масс и народной школы. Но все это было боязливо отброшено и погребено под грудой банальных казенных фраз, сковавших свободную мысль, плохо работавшую в самодержавном склепе.
В этом идейном сражении мы, по справедливости, должны признать победителем буйного Кропоткина, который, несмотря на всю теоретичность своих воззрений и идей, имел за собой социальную правду, говорившую в его построениях, имел мужество, имел, при отрицании государственности, государственный разум. Его противники оказались нищими духом.
VI.
В заключение нам остается отметить одно любопытное последствие работ комитета министров по борьбе с революцией. Члены комитета министров жаловались открыто, что даже их держат в потемках относительно «размеров революционного движения». Комитет министров проявил некоторую заботливость о том, чтобы общество о нем было осведомлено и позаботился также и о себе. Министры пожелали иметь у себя по экземпляру представления начальника III отделения и всех к нему приложений. Ген. Потапов ввиду этого вошел со всеподданнейшим докладом соответственного содержания, и 19 марта, на другой день после первого заседания комитета министров, — уже извещал управляющего делами комитета министров М. С. Каханова, что государь разрешил исполнить это желание министров.
Все упомянутые документы, т.-е. представление начальника III отделения, «Записка» и «Программа» Кропоткина, записка графа Палена, копия его письма старшим председателям и прокурорам палат, независимо от выписок из журнала, были таким образом предоставлены в копиях министрам и главноуправляющим.
В результате цели гласности, о которой немного позаботились члены комитета министров, были достигнуты. Выйдя из секретных папок канцелярии, некоторые документы увидели свет в… нелегальной прессе.
Судьбе угодно было, чтобы письмо графа Палена старшим председателям и прокурорам палат оказалось напечатанным в газете П. Л. Лаврова «Вперед», № 8, 1875 г., а знаменитая записка гр. Палена о развитии революционного движения в газете «Работник», Женева, 1875 г. (записка перепечатана в журнале «Былое», IX, 1907). Так совершенно неожиданно для себя и вопреки всем своим намерениям, комитет министров, едва затронув вопрос о необходимости свободы печати, «прорубил окно в Европу» для нелегальной прессы…
Это был единственный положительный результат всей работы комитета…
Ник. Ашешов.
Воспоминания о побеге П. А. Кропоткина
О своем побеге из арестантского отделения Николаевского военного госпиталя в Петербурге П. А. Кропоткин рассказал в своих «Записках революционера». Нарисованную ярко самим «беглецом» картину существенно и значительно дополнил покойный А. И. Иванчин-Писарев («Былое», 1907, I). Ниже мы даем место «Воспоминаниям» непосредственной участницы в организации побега известной революционной деятельницы М. П. Лешерн-фон Герцфельд, в свою очередь весьма существенно пополнившей данные Иванчина-Писарева. Наконец, архивные материалы в настоящем номере, приводимые в статье Н. А-ва, дают освещение этому интересному в истории революционного движения эпизоду, с другой стороны — в области правительственных мероприятий, вызванных беспримерным бегством «политического арестанта». Таким образом, этот момент в жизни П. А. Кропоткина получает если не полное, то во всяком случае достаточное освещение.
Ред.
…………………
Это было летом 1876 года. Я проездом была в Петербурге и пошла отыскивать Ореста Эдуардовича Веймара, жившего на Невском пр. в собственном доме, где у него была ортопедическая лечебница, хозяйством которой заведывала Виктория Ивановна Ребиндер; она предложила мне приют на своей половине, и я охотно приняла предложение, так как потеряла из виду всех своих знакомых после долгого отсутствия из Петербурга.
О. Э. Веймар не принадлежал ни к какому политическому кружку, но он был дружен со многими революционными деятелями.
Когда я пришла к нему, то заметила, что он чем-то сильно занят и взволнован. Вскоре он спросил меня: «вы что думаете делать в данную минуту?».
Я передала ему, что собираюсь ехать на Урал, где предполагаю принять участие в делах уральских рабочих, так как были слухи, что брожение между ними очень сильно, и они нуждаются в поддержке. Некоторые из наших друзей уже поехали туда, а я до отъезда предполагаю пробыть некоторое время в Петербурге.
— Не примете ли вы участие в одном деле? — спросил он меня и рассказал, что предпринимается освобождение Кропоткина.
Я, конечно, немедленно согласилась, и он повел меня знакомиться с участниками. Мы застали всю компанию за приготовлением красных шаров, которые никак не удавалось надуть до такой степени, чтобы они могли подняться на значительную высоту.
Дело было в том, что по плану освобождения, составленному самим Кропоткиным, следовало подавать ему знаки красными шарами; стены же двора военного лазарета, где содержался П. А., были высоки, и шар должен был хорошо подниматься.
Мне предложили роль сигнальщика — я согласилась, не зная, что выйдет с этими неудачными шарами. После этого Ор. Эд. повез меня смотреть лошадь на какую-то площадь. Великолепный вороной конь, имевший массу аттестатов, останавливал внимание на себе. Мы поехали пробовать его — стрелой летело красивое животное. Но лошадь совсем не оправдывала твоего имени «Варвар», — такое это было симпатичное и добродушное создание.
Лошадь была куплена и со всеми предосторожностями доставлена на дачу, где жили родители Ор. Эд.
Через несколько дней получено было известие, что надо приступать к действию.
Утром, часов в 9-ть, все пошли занимать свои позиции. Местность, где находился Николаевский военный госпиталь, была в то время совершенно пустынной. Только передний фасад здания выходил на большую улицу — Кавалергардскую, по которой ходила конка; но позади строения шла узкая немощеная улица, а за ней тянулись огороды и пустыри и только против двора госпиталя начинались постройки[16].
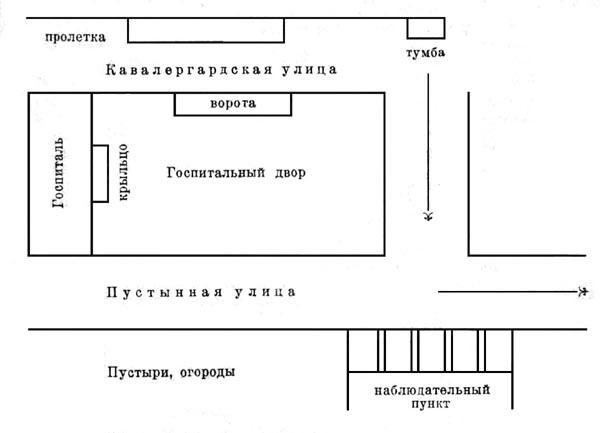
Во время своего бесконечного хождения, я заметила, что в ближайшем домике, во втором этаже, окна которого выходили на госпитальный двор, отдавалась квартира[17]. Не заходя туда, чтобы не заводить лишних разговоров, я поспешила на сборную квартиру. Все были в отчаянии от неудачи, но, конечно, решили повторить попытку. Я сообщила о квартире и предложила занять ее.
Предложение было одобрено, и мы с Зубком (Зубок-Мокиевский) отправились нанимать квартиру; она оказалась такой удобной, какой только можно было желать; окна во все стороны, весь госпитальный двор виден, и все окрестности можно наблюдать. Мы были в восторге и сочинили следующую историю.
Я — акушерка из провинции и везу сюда богатую барыню, у которой роды ожидаются не совсем правильные. Я поехала вперед, чтобы устроить квартиру, — вещи придут на-днях. Со мной приехал брат моей клиентки (Эд. Веймар должен был подавать знаки скрипкой, и ему необходимо было жить здесь, чтобы быть всегда наготове). Мы привезем пока самое необходимое: мебель возьмем у знакомых. Молодой человек, который пришел со мной, родственник семьи, для которой мы нанимаем квартиру.
Мы дали задаток и очень расположили к себе молодую женщину, которой было поручено хозяевами, уезжавшими на дачу, сдать квартиру. Не медля ни минуту, Зубок отправился в Апраксин рынок, покупать мебель, а я пошла известить о нашей удаче. К вечеру мы уже устраивались на новосельи. Первой заботой было выставить все окна; с тревогой обсуждали мы, будет ли слышна скрипка на дворе госпиталя; вскоре наши опасения улеглись. Как только заиграла скрипка, часовой, сидевший на крыльце госпиталя, стал отбивать такт ружьем. Слышно, слышно! Все хорошо.
Хозяйка наша была настолько любезна, что беспрестанно приходила справляться, не нужно ли нам чего-нибудь; ее расспросы тяготили меня, так как приходилось придумывать массу подробностей, интересовавших ее, конечно, из простого любопытства. Она была очень наивна и простодушна. На ее вопрос о наших паспортах, я сказала, что они остались у нас в вещах и прибудут на днях. Ночевать пришел к нам и Зубок, чтобы нам не страшно было вдвоем. Я не боялась нисколько, но Эд. Эд. находил, что жутко.
Наблюдать было теперь очень удобно, и роли были распределены следующим образом: О. Эд. Веймар в дворянской фуражке с дамой (Аксенова) должен был подъехать к лечебнице, находящейся напротив госпиталя. Дама выходит, а кучер (я не помню фамилии) с барином становятся в тень около забора госпиталя. Немедленно дают знак музыкой, что все готово; но, кроме того, на Кавалергардской улице на тумбе, против переулка, упирающегося в наш домик, сидел, будто пьяный и ел вишни — Зунделевич, наблюдавший, чтобы не было препятствий на Кавалергардской улице; он подавал условный знак мне, поместившейся в окне против него, а я передавала Эд. Эд., что надо делать. Зубок наблюдал из правого окна за знаками, которые подавал еще один из участников (не помню кто) о препятствиях на дальнейшем пути. Переулки были здесь так узки, что какой-нибудь воз мог вполне преградить путь рысаку. Все эти сведения передавались музыкой Кропоткину.
Наконец, он вышел на прогулку; спокойно прохаживался он по двору. Наше волнение росло с каждой минутой, но вот исчезли все препятствия, — можно действовать.
Кропоткин выбегает за ворота, сбрасывает арестантский халат, одну секунду остается в недоуменьи, не узнав дворянской фуражки, затем вскакивает в пролетку, Веймар подхватывает его, и Варвар мчит их по закоулкам. Когда они проезжали мимо нашего дома, экипаж чуть не опрокинулся, — так быстро завернули они за угол, а Кропоткин в это время надевал пальто и цилиндр.
Часовые так растерялись, что кидались во все стороны и не знали, что предпринять. На улице поднялся неимоверный шум. Часовые просили лошадей у коночных кучеров, которые не давали, бабы голосили и ругали мужиков за недогадливость: «Вам бы на перерез, они, ведь, вон как летят», и этим только увеличивали суматоху. Я страшно боялась, что догадаются о нашем участии и все просила Эд. Эд., чтобы он не переставал играть, а у него руки дрожали от волнения. Наконец, настал час, когда мы обыкновенно уходили обедать, и мы вышли, как всегда, стараясь придать себе равнодушный вид. На крыльце стояла наша хозяйка и масса публики.
— Что случилось? — спросила я хозяйку.
Она обстоятельно рассказала все происшествие и с разными восклицаниями передавала свое мнение о смелости и нахальстве предпринимателей: — Среди бела дня и т. д.
Зубок убежал вперед, Эд. Эд. с нетерпением ждал окончания излияний словоохотливой женщины.
Наконец, мы отделались и поспешили на конку. Облегченно вздохнули мы, когда конка тронулась.
Я отправилась узнавать, чем все кончилось, но на условленной квартире я застала одну Викторию Ивановну, которая томилась в неизвестности. Мой рассказ успокоил ее отчасти, но, ведь, погоня могла настичь; вообще тысячи случайностей могли еще произойти. Ждать пришлось долго, — зато получились самые утешительные вести.
Беспрепятственно Веймар довез Кропоткина на квартиру к Корниловым. В их доме на Гончарной был проходной двор. Веймар и Кропоткин подъехали к парадному крыльцу. У Корниловых преобразили Кропоткина до неузнаваемости; Веймар также переменил свое одеяние, и они вышли через двор на Невский, где ждала их карета в которой они отправились на дачу к Веймару. Кучер, высадив седоков, поехал к Николаевскому вокзалу, куда пришла Аксенова, и он привез ее к нам оповестить о ходе дела. Полная удача, никакой потери — лучшего нельзя было ожидать.
Зубок так расхрабрился, что решил узнать, что делается на квартире, и увезти оттуда некоторые вещи (между прочим, платье, которое я забыла впопыхах). Я умоляла не подвергать себя опасности, он ни за что не хотел отказаться от своей затеи; дал слово, что будет очень осторожен, и пойдет только в том случае, если все будет спокойно. Он победоносно привез оттуда мое платье и даже некоторую мебель. Оказалось, там еще ничего не подозревают. В городе много говорили о происшествии. Куда ни пойдешь, всюду рассказ с разными вариациями. Рассказывали, что француженка пела романсы и таким образом подавала знаки Кропоткину и т. п.
Вечером многие из участников отправились на дачу к Веймару; там я познакомилась с Петром Алексеевичем, о котором я раньше только слышала. Мы провели вечер очень приятно, катались на лодке, вспоминая все подробности удачного дела.
Несколько дней Кропоткин оставался на даче и только ездил в Петербург, чтобы не возбудить подозрения безвыходным пребыванием дома. Между прочим, и я возила его в карете и к знакомым и в загородный ресторан обедать.
Затем я уехала из Петербурга и не принимала уже участия в его отправлении за границу, подробности о которых мне неизвестны.
М. П. Лешерн-фон-Герифельд.
(По материалам архива III отделения.)
I.
Живописно и увлекательно рассказал П. А. Кропоткин в своих «Записках революционера» историю своего освобождения 30 июня 1876 года из царских уз после двухлетнего пребывания в Петропавловской крепости, Доме предварительного заключения и арестантском отделении Николаевского военного госпиталя в Петербурге.
Бегство «весьма важного политического преступника», совершенное с замечательной, поистине, революционной дерзостью и красотой, является одним из самых красочных эпизодов в истории нашего революционного движения. Понятно, это бегство не могло не ошеломить правительства и не произвести на него потрясающего впечатления. Целый ряд статей, посвященных Кропоткину, как выдающемуся деятелю движения 70 годов и помещенных в настоящей книге, дает достаточный материал для того, чтобы с несомненностью установить очень высокую оценку, какую совершенно справедливо давало правительство Кропоткину. Для III отделения Кропоткин был настоящей «язвой здешних мест», злостным очагом мятежного идейного брожения и заразы. И в то же время этот непримиримый враг «существующего строя» был врагом титулованным, выпестованным в придворной атмосфере верноподданничества и оказавшимся ренегатом по отношению к императорскому дому.
Ясно, что весть о бегстве Кропоткина могла привести правительство только в бешенство.
Сам Кропоткин ярко описывает, как Петербург, во исполнение высочайшего повеления «разыскать во что бы то ни стало» Кропоткина, был наводнен сыщиками и ищейками, явными и тайными, бродившими по городу с фотографическими портретами беглеца или в сопровождении солдат и стражников, видевших его в госпитале. Это была только внешняя картина поисков. Каково же было внутреннее настроение правительственных сфер, упустивших из своих рук такого врага, как Кропоткин? И что предпринимала власть, чтобы немедленно изловить дерзкого преступника, проявившего изумительную ловкость и скрывшегося буквально средь бела дня и на глазах у всех?
Ответ, хотя и неполный, дают нам данные и материалы архива III отделения вплоть до 1917 года, оставшиеся забронированными и самые секретные, а потому никому не доступные. Документы архива дают лишь бумажную картину правительственной деятельности и правительственной психологии. Движение правительственного аппарата и механизма по этим данным представляется нам в форме неоживленной и при том частичной. Нужно некоторое воображение, чтобы за грудой исписанных бумаг почувствовать, как III отделение со всем его штатом наблюдателей, соглядатаев, шпионов и агентов, затем секретное отделение канцелярии градоначальника тоже со своей «прислугой» и, наконец, военное министерство, безнадежно скомпрометированное бегством Кропоткина, напружинились, чтобы смыть с себя «пятно позора», оправдать высочайшее доверие и выполнить императорскую волю. Но все же психологию властей можно уловить и по мертвым бумагам.
Прошло не менее недели после бегства Кропоткина, как власти пришли в себя, опомнились и могли взвесить создавшееся положение, чтобы определить верный курс своих поисков.
Эта первая неделя пропала совершенно бесплодно. III отделение осведомилось о бегстве, совершившемся около 5-ти час. веч., в 9 час. веч. того же 30-го июня из телеграммы с. петербургского градоначальника ген.-адъютанта Трепова. И уже в 11 часу веч. управляющий III отделением Шульц писал доклады главному начальнику III отделения Потапову и его товарищу ген.-ад. Мезенцову.
На другой день был сделан всеподданнейший доклад, но совершенно бессодержательный, потому что у властей не было решительно никаких данных по поводу бегства. Тем не менее III отделение, относившееся к судебным властям весьма подозрительно, тотчас добилось весьма желательного для него высочайшего повеления, чтобы «впредь перевод из мест заключения в госпитали и больницы государственных преступников производился не иначе, как по соглашению с III отделением», о чем последнее срочно и известило 2 июля министра юстиции. И в тот же день военному министру было передано, тоже через III отделение, высочайшее повеление «обратить особенное внимание на это дело и произвести самое строжайшее исследование».
Громоотвод был найден. Царский гнев был отведен на военное министерство, распорядки которого в госпитале создали возможность для бегства, и на судебное ведомство, позволявшее себе обходить III отделение в таком важном вопросе, как перевод преступников из одного места заключения в другое.
Следующие затем всеподданнейшие доклады состоялись 3 и 5 июля (в Гельсингфорсе и в вагоне между Гельсингфорсом и Тавастгусом, при чем лишь в последнем докладе высказывается предположение, что сообщники Кропоткина поселились против госпиталя на Костромской улице в доме Некора, чтобы сигнализировать оттуда о ходе подготовлений к побегу.
По городу метались бесплодно агенты сыска. Данных у III отделения не прибавлялось. Следы беглеца исчезли совершенно. И медленно начал разворачиваться обычный аппарат дознания и предварительного следствия, не имевший в руках никаких наводящих нитей более или менее серьезных материалов.
3 июля прокурор судебной палаты предложил петербургскому жандармскому губернскому управлению приступить к дознанию о бегстве на основании закона 19 мая 1871 года, — того закона, который столь существенно исказил Судебные уставы 1864 года, войдя в них поистине жандармским клином.
В течение 6 и 7 июля III отделение было занято рассылкой циркуляров во все пограничные пункты о задержании Кропоткина, фотографические карточки которого прилагались к циркулярам, шедшим, конечно, по почте… Военное министерство, согласно высочайшей воле, начало свое «исследование». А жандармское управление, работая под непосредственным руководством III отделения, только 6 июля, то-есть через шесть дней после бегства, произвело первый осмотр дома, где жили сообщники Кропоткина, и только 7-го июля начались аресты.
Власть работала в потемках и на верный след не могла напасть. Она арестовала свояченицу Кропоткина, жену прис. пов. Л. С. Павлинову (сестру жены его брата Александра), сестру П. А. Кропоткина — Елену А. Кравченко и рядового Муравьева, служившего при арестантской камере в госпитале. Первые два ареста ничего существенного не дали, так как обе родственницы бежавшего имели разрешенные свидания с Кропоткиным и в легальном порядке передавали ему книги и пищу (через прислугу). Трудно было даже для жандармов предположить, чтобы эти дамы, открыто навещавшие Кропоткина, рисковали слишком явно своим соучастием в преступлении.
Третий арест имел весьма существенные последствия. Допрос Муравьева навел власти на несомненные, с точки зрения законов и инструкций, непорядки и беспорядки в арестантском отделении Николаевского госпиталя, — и власть, увлеченная предположением, что столь смелое бегство не могло обойтись без участия служащих в госпитале, можно сказать, ринулась в поиски в этом направлении. Для Кропоткина и его друзей, столь блестяще его освободивших, такой оборот следствия, конечно, был весьма благоприятен. Устремив все свое внимание на госпиталь, власть уж совершенно безнадежно опускала все нити, которые могли бы навести ее на верный след.
В таком направлении дело и пошло в дальнейшем своем ходе, уклоняясь все более и более от революционного кружка, освободившего Кропоткина.
В двух случаях мелькнула было тень надежды найти виновников бегства вне госпиталя. Жившая в д. Некора дочь подполковника Петрова сообщила жандармской власти, что, встретясь со своей знакомой, вдовой майора корпуса жандармов Жезловой, она узнала от нее, что бегство Кропоткина устроила сестра его Починская, специально для этой цели приехавшая из Одессы. Но расследование, перебравшее всех окружавших и Жезлову, и Починскую, должно было оборваться, потому что Починская оказалась душевно-больной, а Петрова по-просту сплетницей.
16 июля была освобождена Е. А. Кравченко, сестра Кропоткина, а 23 июля для властей представился второй случай напасть на этот раз на вполне верный след. Прислуга Павлиновой, носившая пищу Кропоткину, призналась, что ходила в госпиталь не одна, а с сестрой Павлиновой, Софьей Лавровой.
Из «Записок революционера» и из всех данных дознания видно, что С. С. Лаврова, действительно, принимала участие в бегстве Кропоткина. Она, повидимому, вела переписку путем шифра при помощи книг, которые приносила Кропоткину. Она передала ему в часах записку, окончательно устанавливавшую план бегства. Она, проходя под окнами камеры Кропоткина, успевала обмениваться с ним несколькими французскими фразами. Она сумела проникнуть в арестантское отделение, сиживать в служительской комнате, вести разговоры и переговоры со служителями и давала им чаевые деньги. Смелая и решительная, она даже однажды пыталась получить нелегальное свидание с Кропоткиным, обратившись за этим к одному из дежуривших портупей-юнкеров. Ходила она в госпиталь без разрешения и действовала «явочным порядком» за свой страх.
Но С. С. Лаврова бесследно исчезла. Ни малейших указаний у властей об ее местопребывании не было. Был на-лицо ее муж, но он с женой не жил: у него была новая семья. К тому же Софья Лаврова именовалась по отчеству то «Севастьяновной», то «Александровной». Как было выяснено при дознании, она долгое время жила в доме графа Муравьева-Амурского, который называл ее «дочерью», — отсюда и пошло ее второе отчество. Но оно спутывало власть в поисках — и С. Лаврову так и не пришлось привлечь к дознанию.
28 июля (т.-е. через три недели после ареста, а не через три месяца, как утверждает Кропоткин в своих «Записках») Л. С. Павлинова была освобождена под поручительство ее мужа, в сумме 20 т. р.
II.
Тем временем вернулся в Петербург жандармский подполковник Смельский, командированный III отделением в поиски беглого Кропоткина. Командировка дала самые плачевные результаты. Однако, большой интерес представляет его отчет, представленный в III отделение в порядке агентурном.
Подп. Смельский прежде всего направился в Финляндию, чтобы отыскать «Белую Кирку», в которую, по агентурным сведениям, будто бы бежал и там укрывается Кропоткин. «Белой Кирки» вообще не оказалось. Но Смельский нашел около Белоострова, а затем у «Новой Кирки» две дачи — Филимонова и Лаврова, на которых окрестные финны будто бы видели лицо, похожее на Кропоткина. Смельский обнаружил около дачи Лаврова агента III отделения, который в третий раз сюда приезжал и ровно ничего выяснить не мог.
Гораздо интереснее, по привходящим деталям, путешествие Смельского в Германию.
Смельский объехал со стороны Пруссии пограничные местности Польши и Ковенской губернии, а также прибрежные места Пруссии от Мемеля и до Штетина. Германские власти действовали в полном общении со Смельским. «В Германии, — пишет он в агентурном отчете, — при особом содействии мне в лице полицей-президента гор. Кенигсберга г. Девенс гумбиненского губернатора графа Весларп, начальника сыскной кенигсбергской полиции г. Ягельского, русского консула г. Вышемерского и статс-анвальдта (прокурора) Хефт, — положительно дознано, что Кропоткин по сие время не появлялся ни в одной из местностей всей Германии и о разыскании его сообщено секретно, с приложении фотографии, во все главные германские полицейские управления. О побеге Кропоткина было известно заграницей уже давно, и об этом в первых числах июля было напечатано почти во всех иностранных газетах».
«В Швейцарии, — продолжает Смельский, — производит розыск один из мне знакомых полицейских гор. Кенигсберга; отправившийся туда недавно, и покамест я еще не имею от него сведений о результате розыска».
Заканчивает свой доклад Смельский «сенсационным» сообщением, которое должно свидетельствовать о серьезности его отношения к своей задаче.
«По слухам, — пишет он, — социалисты всех государств собрались ныне в Филадельфии для обсуждения каких-то вопросов, а потому князь Кропоткин, наверно, ныне находится в Америке; с наступлением же осени, вероятно, прибудет в Швейцарию, где, как говорят, в ноябре будет тоже съезд социалистов в Женеве, Цюрихе или каком-либо другом из тамошних городов».
К этим жандармским измышлениям сочла нужным сделать и свое добавление императорская русская миссия в Дрездене, которая препроводила в III отделение 7 августа 1876 г. «сведения, доставленные императорской миссии полицейским управлением г. Хемница о каком-то русском князе Крапотине (?), которые, быть может, не будут лишены интереса».
Почему-то III отделение придало большое значение материалам, присланным миссией, быть может, веря источнику хемницкой полиции, быть может, в силу жадной неразборчивости, с какой оно хваталось за всякое сообщение о Кропоткине. Присланный из Дрездена материал оказался вырезкой из хемницкой газеты следующего содержания (в переводе вопреки оригиналу, Крапотин именуется уже «Кропоткиным»):
«Мы недавно сообщали о смелом побеге бывшего петербургского арестанта князя Кропоткина (несколько лет тому назад он отдал безвозмездно земли крестьянам в своем имении). На этих днях здешняя полиция была извещена о том, что князь Кропоткин выехал из Берлина в Брауншвейг; приметы князя-социалиста были сообщены и полиции было поручено иметь за ним наблюдение. Владельцы гостиниц были об этом уведомлены. Как мы дружелюбно расположены к России! — Полиции однакож не удалось открыть князя Кропоткина. Брауншвейгская полиция может долго его разыскивать; несколько дней уже тому назад князь Кропоткин приехал из Берлина в Хемниц, был в ресторане, посещаемом преимущественно здешней буржуазией, и провел время очень весело. В настоящее время он уже прибыл благополучно в Швейцарию».
Из немецкого оригинала видно, что эта заметка перепечатана хемницкой газетой из брауншвейгской, но на этот пропуск в переводе III отделение не обратило никакого внимания и в таком виде представило эту явную нелепость императору Александру, о чем имеется на оригинале пометка от 11 августа 1876 г.
III.
Между тем жандармское дознание шло своим путем, и 24 августа отдельного корпуса жандармов подполковник Оноприенко и товарищ прокурора судебной палаты Поскочин подписали любопытное постановление о привлечении к делу смотрителя Николаевского военного госпиталя полковника Стефановича. Постановление это написано редким среди канцелярской литературы слогом, горячо, убедительно, с сильным логическим анализом, с энергичными приемами обличений, проникнутых настоящим пафосом. Нет сомнения, что автором этого документа явился товарищ прокурора палаты Поскочин, потому что многочисленные произведения пера подполковника Оноприенко, имеющиеся в деле, представляют собою весьма убогие образцы письменной литературы.
Это постановление послужило материалом для всеподданнейшего доклада, сделанного ген.-ад. Мезенцовым 9 сентября 1876 г. в Ливадии. Доклад подводит итоги всей розыскной работе III отделения и дает окончательный ответ на вопрос о виновниках происшествия 30 июня 1876 года. Он является последним этапом, который убеждает, что III отделение так до конца и осталось в полнейшем неведении относительно действительной обстановки бегства Кропоткина.
Всеподданнейший доклад, который мы приводим в кратком изложении, указывает, что «успех организации и выполнения плана бегства Кропоткина, выработанного в течение пятинедельного пребывания Кропоткина в арестантском отделении госпиталя, находит себе полное объяснение в преступном поведении смотрителя этого госпиталя полк. Стефановича.»
«24 мая с. г. содержавшийся в доме предварительного заключения князь Кропоткин, по болезни, переведен был в секретный номер арестантского отделения. Как арестант весьма важный, князь Кропоткин вызвал необходимость принятия особых исключительных мер строгости заключения, как со стороны управляющего Третьим отделением с. е. и. в. канцелярии, так и со стороны лиц прокурорского надзора, наблюдавших за ходом производившегося о нем следствия.
Об установлении исключительного надзора т. с. Шульц счел нужным предупредить начальника госпиталя ген.-м. Штрандмана особым письмом, а лица прокурорского надзора поручили офицеру отдельного корпуса жандармов то же самое, на словах разъяснить начальнику госпиталя, и при этом передачу книг и свидания с родственниками Кропоткину разрешались не иначе, как по пропуске и в присутствии того же жандармского офицера. Ввиду того, что смотритель госпиталя по закону есть начальник хозяйственной и полицейской частей в госпитале, а равно и всех чинов, к сим частям принадлежащих, начальник госпиталя ген.-м. Штрандман особою резолюциею на письме тайного сов. Шульца, 27 мая, возложил на полк. Стефановича обязанность письменно разъяснить дежурным офицерам о принятии относительно Кропоткина исключительных мер предосторожности с целью устранения всякой возможности Кропоткину сноситься не только с лицами посторонними, но и со служителями. Этого распоряжения полк. Стефанович не исполнил. К делу представлен самим Стефановичем собственноручный отпуск приказа…, который должен быть признан подложным и составлен смотрителем позднее в свое оправдание, не только потому, что подлинный приказ не отыскан, но и потому, что все последующие распоряжения полк. Стефановича диаметрально противоположны смыслу этого приказа. Этими распоряжениями он сделал невозможным надзор со стороны дежурного офицера; сам не предпринял ни одной меры строгости и, наконец, уничтожил самую силу закона по содержанию кн. Кропоткина, как секретного арестанта. Даровав ему льготы, ниже сего перечисленные и предоставленные законом только генералам, штаб- и обер-офицерам, находящимся на излечении в госпитале, полк. Стефанович поставил Кропоткина в глазах дежурных, караульных, служителей и других арестантов — не арестантом, а лицом привилегированным, — князем, и, что всего замечательнее, по собственному его сознанию, сам в своих распоряжениях руководствовался тем же взглядом. Разрешив кн. Кропоткину, вопреки установленным правилам и несмотря на запрещение дежурного офицера, на второй день заключения его в арестантском отделении госпиталя, пользоваться домашним обедом, смотритель открыл возможность лицам посторонним проникнуть внутрь арестантского отделения, и арестанту разрешено было гулять в общем саду. Не воспользовался он этим разрешением только потому, что главный врач Величковский, которому смотритель предъявил бумагу, не согласился допустить прогулку по саду, а избрал для этой цели арестантский двор. После сего полк. Стефанович, с 12 июня, дозволил секретному арестанту гулять по двору, в сопровождении двух госпитальных служителей, отменив, таким образом, параграф 9 инструкции дежурным офицерам, требующий наряда за гуляющими арестантами конвойных. Последствием подобного произвольного распоряжения явилось для кн. Кропоткина возможность сноситься с служителями. Полк. Стефанович оправдывает свои действия недостатком нижних чинов в карауле… Об этом обстоятельстве, как равно и о самом разрешении арестанту прогулок, полк. Стефанович вовсе не доложил начальнику госпиталя. Самое его оправдание несогласно с истиной, потому что некоторые дежурные офицеры от себя посылали конвойных следить за прогулками арестанта и, наконец, сам полк. Стефанович, за несколько дней до побега, при том же числе караульных, отменил свое распоряжение и стал посылать для надзора за кн. Кропоткиным караульных. Это последнее обстоятельство, не объясненное полк. Стефановичем, заставляет предполагать умышленность его действий: подготовив рядом последовательных послаблений кн. Кропоткину план бегства, близившийся к концу, он в решительную минуту — и в своих объяснениях всю ответственность за побег старается возложить на конвойных, — устраняет госпитальных служителей. Подобное же незаконное распоряжение полк. Стефановича открыло кн. Кропоткину ворота арестантского двора, — это последнее препятствие для осуществления плана побега. До нынешнего лета на дворе арестантского отделения складывались в небольшом количестве дрова лишь для отопления собственного флигеля. Затем ныне по распоряжению смотрителя, за недостатком в госпитале места, как он поясняет, начали возить на арестантский двор и дрова из общего госпитального запаса. Разрешение подобной меры по закону зависело от комитета госпиталя, постановляющего свои решения по журналам, которые передаются для исполнения по принадлежности. В данном случае полк. Стефанович не мог сослаться на подобное постановление, так как, по словам главного врача, члена комитета, подобного вопроса не решалось, а что, напротив того, он, Величковский, не раз говорил смотрителю о неудобстве ставить дрова на арестантском дворе. Постоянный привоз дров требовал и постоянного отпирания ворот, которыми заведывал служитель Александров. 30 июня в условленный для побега час, когда пролетка стояла за открытыми воротами, Александров отошел от ворот, предоставив арестанту беспрепятственно исполнить задуманное. Ко всему изложенному остается добавить, что полк. Стефанович, разрушая последовательно, по мере возрастания смелости арестанта кн. Кропоткина, все преграды к осуществлению плана бегства, так обдуманно составленного в стенах секретной камеры арестантского отделения, весьма редко посещал это отделение и никогда не присутствовал при обеде или прогулках Кропоткина, столь серьезно рекомендованного его исключительному вниманию».
«На этом основании Стефанович 1 сентября был арестован так же, как и надзиратель госпиталя Смагин.
В ноябре месяце дознание было закончено и препровождено на заключение прокурора палаты и затем через министра юстиции вернулось в III отделение на его заключение. В конечном результате дело о Павлиновой за недостатком улик было прекращено, о Лавровой за ее неразысканием приостановлено, а Стефанович и находившиеся под арестом рядовые Муравьев и Александров и надзиратель Смагин преданы военному суду».
Нужно заметить, что вышеупомянутый всеподданнейший доклад в значительной степени смягчил все выяснившиеся при дознании распорядки в арестантском отделении госпиталя. Царю была представлена только доля истины, вероятно потому, что общая картина нарушений закона была бы слишком удручающа, а также и потому, что только сконцентрировав обвинение на сравнительно мелкой сошке — Стефановиче, можно было отвести грозу от высших чинов военного министерства. Как бы то ни было, но дознание выяснило, что у Кропоткина совершенно незаконно в камере была громадная библиотека книг и масса письменных принадлежностей, что он гулял по корридору и сообщался с другими арестованными, которым давал книги для чтения, что он носил свое белье и платье, использовал служителей для общения с внешним миром и вел даже переписку слишком открыто. Выше указано было, что С. Лаврова своей смелостью и энергией добилась для себя какого-то привилегированного положения, приходя в арестантское отделение, как домой.
Насколько, однако, справедливо предположение властей о том, что Стефанович, смотритель госпиталя, был в заговоре с Кропоткиным, судить об этом трудно. Мы не имеем никаких данных предполагать, чтобы между Стефановичем и Кропоткиным был какой то договор или секретный союз. Из дела видно, что Стефанович мало интересовался жизнь арестантского отделения, точно махнул на него рукой. Проще всего объяснить такое его отношение обычной халатностью, бюрократизмом и отсутствием всякого опыта содержания под своим начальством секретных преступников. Нравы поэтому складывались довольно патриархально, и то, что приписывается злому умыслу Стефановича, легко могло явиться результатом того первобытного уклада, когда «политика» не разъела еще окончательно чиновничьих душ.
Кропоткин, конечно, был сильной натурой, и он легко подчинил себе, как это видно из дела, служителей, оказывавших ему всевозможные услуги. В «Записках» Кропоткин вспоминает, что мысль проситься на прогулки подал ему один из служителей. Понятно, что давать такие советы служитель мог, только подпав под сильное влияние, а, может быть, и очарованье. Но Стефанович редко виделся с Кропоткиным; к тому же смотритель был при своем далеко немолодом возрасте (ему было 58 лет) безнадежно болен: у него был рак печени и порок сердца. Ясно, что он стоял в стороне от всего плана бегства.
Все эти данные хорошо рисуют жизнь Кропоткина в арестантском отделении. Можно сказать, что он там «жил князем» — до такой степени осыпали его льготами и окружали его благосклонным вниманием. Иначе, конечно, бегство было бы и не мыслимо.
IV.
Наступил 1877 год. III отделение уже, несомненно, знало тогда, что Кропоткин, благополучно уехавший в Англию и пробывший там почти до конца года, переехал в Швейцарию. Естественно, что все розыски сами собой прикончились. Но все же тень Кропоткина и некоторые обстоятельства в связи с его делом еще долго тревожили III отделение.
В январе месяце III отделением была решена судьба имущества, оставшегося в камере после бегства Кропоткина. Довольно много вещей и платья и даже 6 р. 70 к. денег решено было препроводить градоначальнику «для раздачи бедным», а книги, карты и бумаги остались на хранении в III отделении. Только в октябре следующего, 1878 года, императорское Русское географическое общество осведомилось о нахождении книг и бумаг Кропоткина в III отделении и обратилось к нему с просьбой предоставить их обществу, так как именно оно разрешило еще в 1874 году Кропоткину, когда он сидел в Петропавловской крепости, пользоваться книгами и рукописями библиотеки общества для изготовления к печати VII тома «Записок по общей географии», который был впоследствии отпечатан. Книги, ученые записки и карты были выданы Географическому обществу в том же октябре 1878 г.
29 апреля III отделение было оповещено петербургским комендантским управлением, что «содержащийся в комендантском управлении под стражею… полковник Стефанович сего числа в 3½ ч. дня умер от рака печени и хронического порока сердца». На этом сообщении, повидимому, управляющий отделением т. с. Шульц сделал — точно для истории — следующую столь редкую на жандармских документах человеческую надпись:
«Только сегодня, в 3 часа, 2-ой комендант, г.-м. Адельсон, заезжал ко мне, чтобы предупредить о болезни Стефановича, прося содействия о переводе его в лечебницу не в качестве арестанта, так как Стефанович ни за что не хотел быть помещенным в Николаевский военн. госпиталь, где он был смотрителем».
Следующим документом комендантское управление сообщало, что похороны Стефановича состоятся 2-го мая, и рукой того же Шульца написано на сообщении: «д. с. с. Перетцу поручено командировать туда нескольких агентов» — не для отдания последнего долга, конечно, а, вероятно, для агентурных подслушиваний людских толков в толпе провожающих гроб…
В октябре 1877 года III отделение было взволновано полученным им агентурным путем сведением, что С. С. Лаврова вернулась в Петербург и живет вместе с прежним мужем на Моховой улице. Однако, секретное отделение канцелярии градоначальника сообщило, что Лавровой в Петербурге нет. И т. с. Шульц, повидимому, очень мало веривший общей полиции, сделал надпись на сообщении: «тут просто какая-то проделка местного пристава». Но «проделки» все-таки не оказалось, и С. Лаврова так и канула в воду…
В январе 1879 г. III отделение вновь серьезно всполошилось, оно получило известие, что Кропоткин «намерен тайным образом проникнуть в Россию». Полетели на все пограничные пункты телеграммы и вновь были разосланы циркуляры с приказом об аресте Кропоткина.
Затем в феврале 1880 г. III отделение вновь разослало всем губернским жандармским управлениям какую-то телеграмму о Кропоткине. В деле отпуска нет, а потому невозможно судить об ее содержании. Но два управления в ответ на телеграмму извещали III отделение, что у них не имеется в делах розыскного циркуляра и карточки Кропоткина.
III отделение было упразднено, и начал свою просвещенную работу департамент полиции. В октябре 1880 г. департамент разослал во все пограничные пункты опять телеграмму о том, что Кропоткин предполагает «между 1 и 15 ноября прибыть в Россию». И затем следует обычный приказ об аресте. На эту телеграмму имеется один ответ — и то весьма курьезный — от начальника вержболовского пограничного отделения, который пренаивно запросил департамент полиции, из какого именно государства должен выехать Кропоткин? На запросе резолюция: «последнее время был во Франции, но где теперь — неизвестно; не вижу особ. надобности в этом сведении».
7 августа 1881 года наш представитель в Швейцарии Гамбургер шифрованной телеграммой из Берна просил департамент полиции сообщить ему все сведения, какие он имеет, о Кропоткине. 8 марта министр внутренних дел гр. Игнатьев уже препроводил т. министра иностранных дел Н. К. Гирсу подробную справку департамента полиции о Кропоткине и его деятельности и жизни в России по день бегства. А 12 августа тот же Гамбургер прислал торжествующую телеграмму, что Кропоткин федеральным советом изгнан из пределов Швейцарии…
Объемистое дело о бегстве Кропоткина на 196 листах заканчивается двумя документами. В первом и. д. саратовского губернатора Азанчевский в написанном лично сообщении, передает подслушанную в городском саду его чиновником беседу о том, что Кропоткин находится в Саратове (24 августа 1881 г.). Это фантастическое сообщение написано с такими грубыми грамматическими ошибками, что даже директор департамента не удержался от искушения часть из них (вроде «имянины», «карточька», отсутствия ятей и т. п. подчеркнуть синим карандашом).
Второй документ серьезнее. Прокурор саратовской судебной палаты рапортом сообщил министру юстиции (копия рапорта, конечно, была немедленно передана в департамент полиции), что в борисоглебском уезде при с. Петровском, Туголуковской волости, находится имение, принадлежащее князю Кропоткину, в количестве 270 десятин и что доходы с этого имения, отдаваемого в аренду крестьянам, за плату в 1890 р. в год, пересылаются Л. С. Павлиновой, живущей близ Петербурга по финляндской ж. д. А. Павлинова, — сообщает прокурор, — «будто бы» пересылает эти суммы за границу кн. Кропоткину.
«Так как, — осторожно пишет прокурор, — возникает предположение, что означенный князь Кропоткин есть тот самый выходец из России, который, скрываясь от преследования за совершенные им государственные преступления, бежал за границу и до последнего времени проживал в Женеве, занимаясь там революционной деятельностью, то тамбовским губернатором собираются по сему поводу сведения, по получении которых имеется возбудить вопрос о признании кн. Кропоткина безвестно отсутствующим и о взятии его имения в опекунское управление»…
Прокурор дополняет, что об этом он узнал лично от тамбовского губернатора, посетившего имение Кропоткина и приказавшего «задержать следующие владельцу арендные деньги». По поводу этого распоряжения губернатора к нему обращался брат кн. Кропоткина, «высланный, вероятно, по административному распоряжению в Сибирь, чему служит доказательством направление его переписки чрез начальника местного жандармского управления»[18].
Прокурор палаты в заключение сообщает, что он ждет запрошенных тамбовским губернатором сведений о Павлиновой, чтобы дать делу надлежащий ход.
Этим и оканчивается все производство дела о побеге князя Кропоткина[19]2).
Н. А — в.
Из воспоминаний о П. А. Кропоткине
В первый раз мне пришлось познакомиться с Петром Алексеевичем в Париже, во Франции, — в стране, столь же близкой его сердцу, как и Россия.
Это было в 1906 году, вскоре после поражения первой русской революции. На короткий миг блеснул луч свободы у нас и — погас. Снова начались репрессии и преследования всех передовых элементов. Десятки тысяч русских революционеров вынуждены были уехать за границу и здесь вести тяжелую эмигрантскую жизнь.
В Париже, в 1906 году, Латинский квартал был переполнен русскими эмигрантами и учащейся молодежью. Среди русской левобережной колонии велись нескончаемые споры о причинах поражения революции, о классовой борьбе, о роли пролетариата и т. д.; вожди всех революционных партий старались доказать истинность своей теории и правильность своих программ. Русская эмиграция жила обособленным мирком и своими интересами…
А между тем, в это время во Франции, в особенности в Париже, росло и крепло рабочее синдикальное движение; в рабочей французской среде вырабатывались новые методы революционного действия и создавались новые социальные организации, в которых многие видели ячейки будущего социалистического общества.
Придя однажды во Всеобщую Конфедерацию Труда, я узнала, что в Париж, после двадцатилетнего изгнания из Франции, приезжает П. А. Кропоткин.
Это известие взволновало меня: предстояла возможность воочию увидать эту почти легендарную личность знаменитого русского революционера и анархиста, члена I-го Интернационала, человека, которого царское правительство считало одним из самых страшных своих врагов и присутствие которого признавалось опасным даже для республиканской Франции.
Сначала меня поразило, что П. А. по приезде в Париж выступает прежде всего перед французскими рабочими, но впоследствии я поняла, что П. А. был революционером не только русским, но и интернациональным, и в международном рабочем движении, особенно в латинских странах, он имел больше друзей и единомышленников, чем среди русских революционеров.
В день собрания, на улице, перед зданием, где был назначен митинг с участием П. А., почти с самого утра царило необычное оживление; замечались многочисленные полицейские, а к вечеру появились патрули агентов циклистов… По тротуарам тянулись вереницы французских рабочих, итальянцев, испанцев, русских… Вскоре зал был переполнен. Становилось тесно, душно и тускло от табачного дыма…
В толпе и на эстраде виднелись фигуры многих видных деятелей французского рабочего движения: вот высокий и худой Джемс Гильом, член I-го Интернационала, близкий друг Бакунина и главный деятель знаменитой Юрской федерации; вот Эмиль Пуже, редактор «Голоса Труда», главного органа синдикалистов; Грифюель, секретарь Всеобщей Конфедерации Труда; вот верный ученик Кропоткина, Жан Грав и т. д., и т. д.
Время тянулось бесконечно долго. Но вот зал всколыхнулся, и раздался громкий взрыв аплодисментов и возгласы: «Vive Kropotkine!». Затем после того, как волнение улеглось, и П. А. добрался до эстрады, председатель собрания, после короткого, горячо прочувственного приветствия, предоставил слово Петру Алексеевичу.
«Chers compagnons et amis, — раздается с эстрады ласковый, тихий, но в то же время ясный голос. — Я счастлив, что я снова с вами… Прошло почти полвека, когда я с некоторыми моими товарищами выступил в вашей стране на борьбу за лучший строй, когда навсегда исчезнет эксплоатация человека человеком и власть человека над человеком… Нас было тогда слишком мало, борьба была так неравна, но мы стойко шли к своей цели»…
Тут в первый раз увидала я Петра Алексеевича. Держась за спинку стула, он весь устремлялся вперед; его глаза блестели сквозь очки; серебристая борода развевалась широким веером… Речь тихо и плавно льется, захватывая своей искренностью и задушевностью. Нет ораторских приемов, красивых жестов, напыщенных слов, чувствуется лишь безграничная любовь к человечеству, искренняя вера в народные массы и в их созидательное творчество.
Из всей речи П. А. мне особенно врезались в память следующие положения:
«Уже в Первом Интернационале намечался и вырабатывался новый мир социальных отношений и новые методы мышления… Мы и тогда понимали, — говорил П. А., — всю глубину и нравственную силу движения… Поражение Парижской Коммуны приостановило развитие социального движения, но не убило его в корне, и теперь это движение становится грозной силой… но в мире царит еще эксплоатация и неравенство, и задача всех сознательных людей состоит в том, чтобы покончить с миром насилия и гнета»…
«Хотим мы или не хотим, — продолжал П. А., — но Европа ускоренным ходом идет к социальной революции. Революция близка. Она захватывает все новые и новые страны и распространяется все дальше и дальше на восток. Нечего бояться поражения русской революции, она неизбежно воспрянет снова через несколько лет и положит конец бесправию русского народа… От трудящихся всех стран и вас зависит, — будет ли грядущая революция дальнейшим этапом по пути к свободе, или человечество повторит эту вечную ошибку, поставив над собой новых властителей, и жизнь снова вернется в старое русло»…
«Совершить социальную революцию путем диктатуры и власти невозможно, нужно широкое сотрудничество рабочих и крестьян для выработки вольных форм новой хозяйственной жизни».
И П. А. горячо призывал «отдать все силы души, всю энергию бескорыстному служению народным массам и делу социальной справедливости. …Он яркими образами рисовал картины будущего строя, когда солидарность и взаимопомощь, — эти великие двигатели прогресса, — заменят принудительное начало, царящее в современном обществе, и только тогда люди и народы всего земного шара смогут объединиться в одну великую семью равных и свободных»…
Бурные аплодисменты несколько раз прерывали речь. Но вот П. А. кончил. Сотни рук потянулись, чтобы пожать его руку… Приветливо раскланиваясь, немного смущенный и взволнованный, пробирается П. А. к выходу, радушно пожимая протягивающиеся к нему руки.
Наконец, он около меня, я вижу его в нескольких шагах от себя… Ясные, ясные глаза любовно перебегают с одного человека на другого…
Через несколько дней мне пришлось увидать П. А. у одной русской эмигрантки и познакомиться с ним лично. Более близкое знакомство с ним еще сильнее укрепило мое первое впечатление, и я невольно поражалась его всеобъемлющим ясным умом, научной эрудицией, его широкой терпимостью, его безграничной верой в человека и его глубокой любовью ко всем угнетенным и эксплоатируемым.
Дмитров,
11 июля 1921 г.
Н. Критская.
Мое последнее свидание с П. А. Кропоткиным
Это было прошлою осенью в конце октября. Я поехал к Петру Алексеевичу для того, чтобы вылепить с него этюд для бюста, который заказал мне Центральный Географический Музей. В Москву я поехал вместе с П. А. Пальчинским, который рассказал, что он недавно виделся с Кропоткиным и нашел его в прекрасном состоянии. Это известие очень меня порадовало; я все находился под впечатлением моего последнего посещения П. А. в Бордолеро на Ривьере. Тогда П. А. чувствовал себя нехорошо после болезни.
Поездка в Дмитров, где жил П. А., оказалась делом не очень легким: вокзал находится на окраине города; трудно было попасть в поезд, переполненный пассажирами и их багажем; приходилось все время стоять в духоте и в тесноте. Но зато, добравшись, наконец до Дмитрова, я почувствовал радостное настроение. Свежий осенний воздух привел меня в себя. Восхитил меня красивый великорусский городок. Он расположен по неровной живописной местности. Все утопает в зелени, и после лета, проведенного мною в городе, я здесь почувствовал прелесть русской природы.
В одной из верхних улиц города, внутри красивого садика, уютно расположен дом-дача, в котором жил П. А. Никого дома не было. Поднимаясь по садику, я попал в открытое место — огород — и там увидал Софью Григорьевну (жену Кропоткина). Она копала картофель.
— Вот видите, — заговорила она, — на старости лет приходится работать на земле. И руки не могу вам подать. С утра копаю картофель; весь огород — это дело моих рук, — за то овощи будут на весь год. А Петр Алексеевич, — прибавила она, заметив, что я осматриваюсь и ищу глазами, — скоро придет: он теперь гуляет.
— Как его здоровье?
— Не очень-то хорошо. Сердце очень слабое. Я очень беспокоюсь за его здоровье; поддерживаю его, сколько позволяют мои силы. Счастье, что у нас корова, — и я могу ежедневно давать ему хорошее молоко. Ну, вот на сегодня довольно, — закончила она, — теперь надо картофель снести в сарай. Помогите.
Взвалив мешок с картофелем на тачку, я собирался катить ее вниз, но в это время у калитки появился Петр Алексеевич. Мелкою быстрою походкою он вплотную подошел ко мне, радостно приветствуя мой приход. Мы расцеловались. Меня порадовал его свежий бодрый вид. Таким я его видел лет 15–17 тому назад в Англии, в Бромлей, — он показался мне ничуть не состарившимся.
— Дайте я помогу, — сказал он и, схватив ручку тачки, встал со мною рядом, желая везти картофель. Мы противились этому. Софья Григорьевна опасалась, что это вредно отзовется на его сердце, но П. А., не обращая внимания на наши протесты, повез свежий картофель в сарай.
Вошли в дом. Через стеклянный крытый балкон попали в крошечную темную переднюю, затем в небольшую уютную столовую и оттуда в кабинет, заставленный так тесно мебелью, что трудно было вдвоем пройти к роялю, на котором лежали книги. Книгами была наполнена и вся комната: они лежали и на подоконнике, и на столах, и даже на стульях. Все это напомнило мне его кабинет в Бромлей; вообще вся квартира и даже обстановка ее была точно перенесена из Англии, — только сад и огород говорили о помещичьей жизни (раньше этот дом-дача принадлежал известному помещику).
— А вот и ваша комната, в которой вы будете спать, — сказал П. А., открывая дверь небольшой комнаты возле балкона, — и сильный острый запах яблок и томатов, лежавших на столах и на комоде, пахнул мне в лицо. — Тут живет Саша (дочь П. А.), когда она приезжает из города.
— Как она себя чувствует?
— Она страшно много хлопочет в городе о выезде в Англию; ей необходимо съездить в Лондон и привезти мою библиотеку — около 10 ящиков книг. Бедная, она очень злится, потому что ей не выдают разрешения на выезд.
Я передал П. А. письмо от директора Географического Музея, который сообщал об избрании П. А. Кропоткина почетным членом Музея, а от себя прибавил о поручении последнего вылепить П. А. для Музея.
— Что же, я очень рад, — сказал П. А., — вот можете устроиться у окна и — хотите? — сейчас же начнем. Скажите, что вам нужно: столик и еще что?
Признаться, место, на которое указал П. А., было очень неудобно для работы, — слишком тесно, да и двигаться было нельзя. Впрочем, мне не раз уже приходилось работать при таких неблагоприятных условиях. Помню, что когда я впервые лепил Л. Н. Толстого, то не мог делать никаких движений, потому что Л. Н. писал, и я боялся произвести шум, чтобы не помешать ему.
Мы решили сейчас же приняться за работу.
— Но раньше всего, — сказал П. А., — мне надо переодеться и причесаться.
Я вспомнил первый сеанс, когда я лепил П. А-ча в Бромлей: он и тогда до начала моей работы побежал прихорашиваться…
Во время работы П. А. заговорил о Географическом Музее и стал рассказывать о своем влечении к изучению географии и о том, как он работал, когда писал о ледниковом периоде, и как сотрудничал в географических обществах в Петербурге, а затем в Лондоне.
— Да, это было лучшее мое время, — закончил он свой рассказ.
— О чем вы пишете теперь? — спросил я, — вероятно, события последнего времени дали вам огромный материал?
— О, нет, — отвечал П. А., — пишу об этике.
Это меня удивило, но я вспомнил, что такое же удивление вызвал во мне подобный же ответ Плеханова, когда я был у него в 90-х годах в острый политический момент, и когда на мой вопрос, что он пишет, он ответил:
— Об искусстве…
— Я начал свою этику с животных, — говорил П. А., а я по этому поводу рассказал Кропоткину о той перемене, которая произошла во взглядах на животных в области живописи и скульптуры: в последнем столетии художники стали подмечать у животных их мирную интимную жизнь и передавать это в картинах и группах, — чего раньше в искусстве не замечалось. Об этом я писал в одном художественном журнале. П. А. заинтересовался этим и просил прислать ему статью.
Подали обед. Софья Григорьевна жаловалась на дороговизну и высказывала свое негодование по поводу всей обстановки современной жизни. П. А. не так резко осуждал строй жизни.
— Я, конечно, отрицательно отношусь к многому, что теперь делается, — говорил он, — и я это высказал прямо и откровенно многим стоящим во главе нынешнего правительства. Но ко мне хорошо относятся и многое, о чем я просил, было удовлетворено, — даже предложили мне принять участие в делах, но я, конечно, отказался. Как анархист, я не могу примириться ни с каким правительством.
После обеда П. А. отдохнул, а потом позвал меня на прогулку.
— Покажу вам город, он очень интересный и красивый.
Как ученый географ, П. А. давал мне точные и преинтересные сведения о местности и о природе. Он, повидимому, все изучал и облюбовал.
— Вот тут вал. Поднимемся: оттуда открывается вид на окрестности.
И П. А. стал мне рассказывать историю городка. Когда-то это было модное место прогулки известных и именитых московских богачей. Сюда приезжали зимою покутить и погулять, а летом тут устраивали своих метресс, — и жилось здесь тогда всем весело. Теперь, конечно, все опустело, и многое уже видоизменилось.
На следующее утро П. А писал, а я один гулял по городу, вспоминая вчерашние рассказы П. А. На сеансе мы говорили об искусстве, которым П. А. очень интересовался. Он сам хорошо рисовал и показал мне свои работы, в высшей степени интересные по отделке и по той любви, которую он проявлял к формам. Эти рисунки должны сделаться достоянием Музея.
Во время обеда Софья Григорьевна опять стала жаловаться на неудобства, вызванные современными условиями жизни. Она очень пессимистически смотрела на положение вещей. Но П. А. не так мрачно представлял себе будущее. Он верил в будущность России: «это все — история; так и должно быть, а будет лучше, чем было».
— Меня интересует вопрос, — сказал я, — не считаете ли вы, что коммунизм больше других форм революции приближает нас к осуществлению идеалов анархизма, служит как бы его этапом?
— До известной степени это так, — ответил П. А. и попутно выразил сожаление, что вообще анархизм несколько ослаб, в особенности в Москве анархисты не особенно деятельны.
Беседы с П. А. продолжались и на следующий — последний — день. Ясность ума и широта взгляда П. А. на современные события произвели на меня глубокое впечатление и сильно подняли мое настроение. Я уехал от него бодрым…
Когда буря и гроза ломают деревья, заливают землю, заливают луга и производят опустошения, — одни вековые дубы держатся стойко, под натиском стихийных сил. Эти дубы — свидетели многих перемен в природе. Радостно видеть этих гигантов. От них уходишь с верою в мощь и жизнь природы. И я счастлив, что видел такие дубы, как Л. Н. Толстой и П. А. Кропоткин.
Илья Гинцбург.
П. А. Кропоткин в Дмитрове
Воспоминания кооператоров.
I.
Узнав от товарищей-кооператоров, что в Дмитрове живет Кропоткин, я, конечно, захотел познакомиться с ним. 15 лет тому назад я прочитал его книгу — «Поля, фабрики и мастерские», многое мне разъяснившую и произведшую на меня большое впечатление. С тех пор я начал глубоко ценить и уважать Кропоткина… И вдруг явилась возможность увидать этого самого человека, — автора любимой книги…
Я с волнением ждал вечера, в который я условился с товарищами-кооператорами побывать у Кропоткина.
В глубине парка знакомый домик Олсуфьева, в котором живет Кропоткин, — и сердце мое начинает усиленно биться. Я мысленно уже представлял себе, что вот увижу сейчас человека, великого духом, по внешности схожего с Толстым — в рубахе, в простых сапогах… Робко вхожу сзади двух товарищей на терраску и в домик, и в дверях нас встречает радостный, с большой белой-белой бородой старичек, чисто одетый. Я сразу узнал в нем Кропоткина, так как раньше видал его на портретах. В маленькой столовой у него в это время были гости. В. А. Рыжов познакомил меня с П. А., и как-то сразу и волнение, и робость исчезли у меня, не стало присущей при первой встрече натянутости, и я сразу почувствовал пред собой открытую настежь, одинаково любящую всех душу. И быстро у нас завязался разговор… Когда я шел к П. А., я думал больше слушать его, а вышло как раз наоборот, — я только что приехал с Урала, и П. А. начал расспрашивать меня о жизни и настроениях на Урале, и, увлекшись, я забыл о главной моей цели — послушать его и, уходя, очень жалел об этом. Странное чувство было тогда: увидал я впервые человека, а уходить от него не хотелось, как будто я очень давно был знаком и близок этому человеку. Вышел на улицу и как будто что-то родное, близкое оборвалось в душе и осталось в этом маленьком домике…
Второй раз я был у П. А весной со своей женой. П. А. сразу узнал меня. Дома была и Софья Григорьевна, и опять они очень радостно встретили нас, начали суетиться, готовить чай, и чувствовалась в них большая заботливость к гостям и предупредительность в каждой мелочи. Если чего-либо не оказывалось на столе, П. А. быстро, по молодому, вскакивал со стула и легкой, быстрой походкой приносил нужное. Закашлялась моя жена, — опять он быстро встает и приносит пилюли, и как ни отказывалась жена — П. А. настойчиво просит принять лекарство, говоря: «Я всегда так, — как закашляюсь, так пилюлю приму, и пройдет кашель». Много и с увлечением рассказывал он о своей заграничной жизни, об обязанностях человека, расспрашивал о жизни нашей земледельческой артели и давал свои советы.
Марии Михайловне (моей жене) захотелось посмотреть огород и сравнить его со своим артельным. П. А. шутливо ответил, что это — дело Софьи Григорьевны: она и покажет свои труды. Все вместе пошли на огород. Софья Григорьевна рассказывала о том, сколько пришлось ей затратить трудов на расчистку огорода; он весь был завален боем кирпича; подробно рассказывала о посадках и уходе. Огород был образцовый, — хотя и не больших размеров; все в нем тщательно было подобрано, выполото, подвязано, и растения были свежие — сочные. Видна была во всем любящая и заботливая рука… Кирпич был собран в кучи…
Впечатление от посещения Кропоткиных у меня и у жены остались очень сильные, и мы часто об этом вспоминали. Чувствовалось, что и семейная жизнь П. А. такая же радостная, как и вся его жизнь.
В третий раз пришлось мне побывать у П. А. осенью 1920 г., уже как представителю земледельческой артели. На собрании мы постановили в знак глубокого уважения к Петру Алексеевичу поднести ему артельный подарок — 2 фунта меда со своей маленькой пасеки. Мы очень боялись, как бы не обидеть Петра Алексеевича этим подарком, но нам хотелось, чтобы этот небольшой подарок подчеркнул нашу искренность и глубокое уважение к нему и чтобы он это понял. Из артели командировали меня и другого артельщика — пчеловода Н. В. К П. А. мы пошли вечерком. При входе у дома мы увидели его прислугу с длинным шестом (слегой), старающуюся раскрутить высоко висящую телефонную проволоку. Мы взяли у ней шест и начали разъединять проволоку. Эту сцену из окна увидал П. А., вышел к нам на террасу и шутя остановил работу, сказав: «Пусть Мария Филимоновна сходит на почту и попросит мастера разъединить, а гости пойдемте в дом»… И так же опять весело и жизнерадостно встретил нас. Мы передали ему выписку из протокола и подарок… И как мы обрадовались, увидав, что Петр Алексеевич радостно-искренне принял его и благодарил за наши чувства к нему: «Как, говорит, кстати, а я вот думал: чего бы нам послать Александре Петровне (дочь П. А-ча), она только что выздоровела от тифа — вот хорошо»…
Мы, боясь его затруднить, так как знали, что всякое переутомление ему вредно, хотели уйти, но он нас не пустил — оставил пить чай, и, пока готовили самовар, разговорились о жизни нашей артели; П. А. рассказывал о том, как живут в Англии такие же артели и какие делают они успехи и, между прочим, советовал, как можно скорее, строить отдельные домики для каждого семейства, иначе почти все сельско-хозяйственные коллективы распадаются. Живя в одном доме, «артельщики или перессорятся между собой, или перевлюбляются и, в результате, — распад артели». Он высказал мысль, что экономическую сторону артели легче наладить, а духовную — труднее, в особенности трудно наладить жизнь между женщинами. П. А. передавал, как удобно и дешево живут в таких отдельных домиках — городах — садах в Англии, и начал разыскивать в своей библиотеке английскую книгу об этих домиках. В это время принесли на стол маленький самоварчик. Видя, что П. А. не удается найти книгу, мы просили не разыскивать ее, но он все-таки нашел и нам показал рисунки построек и объяснял их. Потом разговор перешел к вопросу о нравственности человека в общественной и личной жизни и много вырывалось у него ярких, отчетливых мыслей о человеке. Тут он помянул и о том, что он пишет книгу на эту тему и что ему хочется закончить эту книгу.
Не хотелось уходить от П. А., да уж время было итти, да и П. А., видимо, утомился… И дивное дело, каждый раз оставалось одно и то же у меня впечатление: завидовал Петру Алексеевичу, что он так долго, до самой глубокой старости, сохранил жизнерадостность и глубокое любовное отношение ко всем. А, уходя от него, каждый раз хотелось и самому быть лучше, чище, больше всех любить и прощать всем…
Бутырская тюрьма,
25 марта 1921 г.
В. Сазонов.
II.
П. А. Кропоткин приехал в Дмитров (Московской губернии) летом 1918 года и поселился в доме, раньше принадлежавшем графу Олсуфьеву на Дворянской улице (теперь переименованной в Советскую).
Дом этот расположен в глубине сада, обнесенного с улицы забором, и окружен старыми березами, в которых весной находили себе приют грачи. Дочь Петра Алексеевича — Александра Петровна — очень недолюбливала этих соседей и сердилась на их шумное поведение по утрам и на то, что они перепутывали телефонные провода. Но Петр Алексеевич всегда был их ярым защитником, хотя они не раз лишали его телефона, и часто рассказывал об их жизни. При этом в словах его чувствовалось большое знание перелетных птиц и много любви к ним.
Домик, в котором прожил свои последние годы Петр Алексеевич, состоял из пяти небольших комнат с прихожей, кухней и комнатой для прислуги. Сам он занимал маленькую комнату с одним окном на север: она служила и спальней, и рабочим кабинетом.
У Петра Алексеевича был установлен очень строгий порядок дня; было точно определено время для занятий, отдыха, обеда, ужина и прогулки, что помогало ему, при его слабом уже здоровьи, сохранить до конца дней работоспособность. Он не гулял только тогда, когда бывал нездоров. И дмитровские жители скоро познакомились с его подвижной фигурой — в черном пальто, широкополой шляпе и с крючковатой палкой в руках.
Первое из учреждений, с которым познакомился Петр Алексеевич в Дмитрове, был Дмитровский союз кооперативов, который привлек его, прежде всего, своим книжным складом, библиотекой и музеем.
Помнится, в библиотеке союза, помещавшейся в маленьком деревянном мезонине дома, занятого союзом, мне и пришлось познакомиться с Петром Алексеевичем. Сразу поразила простота его обращения, которая почти уничтожала невольную перед ним робость.
Петр Алексеевич интересовался и чисто кооперативной работой союза. Он смотрел на кооперацию, как на медленный, но верный путь к достижению социализма. Особенно большое значение он придавал промысловой кооперации и часто ссылался на английских кустарей, которые достигли в своем производстве больших успехов, благодаря применению технических усовершенствований.
В конце декабря 1918 г. Петр Алексеевич, по приглашению правления, появился в первый раз на собрании уполномоченных союза. Все собрание дружно встало, приветствуя его. Вероятно, не многие из уполномоченных-крестьян знали его имя раньше. Но его преклонные годы, большой жизненный опыт, искренность и теплота его слов сразу завоевывали глубокое к нему уважение.
Поэтому появление Петра Алексеевича на собраниях уполномоченных всегда вызывало радушный, даже восторженный прием. Петр Алексеевич не раз говорил на собраниях о том, что революционный переворот, подобный тому, какой переживает Россия сейчас, переживается человечеством периодически, раз в 120–130 лет, и что за ним должен следовать громадный подъем производительных и умственных сил страны. Он призывал кооператоров к наибольшему напряжению труда и приложению своих знаний в целях налаживания жизни на свободных началах.
Эти бодрые слова такого глубокого старика заражали всех верой, и в собрании на лицах всех присутствовавших нельзя было не видеть радости и умиления. Таково было обычное впечатление от выступлений Петра Алексеевича на собраниях уполномоченных. Он любил сниматься вместе с собранием уполномоченных, и есть фотографии, на которых можно видеть его сидящим в центре группы вместе с Софьей Григорьевной.
В последний раз он выступал в собрании уполномоченных, посвященном 5-ти-летнему существованию союза —14 ноября 1920 г. Сердце у него работало уже плохо. Но он все-таки хотел говорить, и речь его, как всегда, была очень простой и задушевной. Он указывал на Францию, где сейчас привлекаются к ответственной работе практические работники-кооператоры. Говорил и о том, что он «грешным делом пописывал и сейчас пописывает», — и возможно, что в некоторых отношениях он «ошибался». Но, — говорил он, — недостаточно хорошо писать книжки, чтобы правильно построить жизнь: надо глубже знать самое жизнь и необходимо участие в управлении страной людей дела, хорошо знающих эту жизнь.
На этот раз Петр Алексеевич сейчас же после своей речи ушел из собрания, потому что сильно утомился.
Петра Алексеевича посещали многие крестьяне и рабочие, и он всех их принимал с большой любовью, и посетители всегда от него уходили с большим удовлетворением.
Лично я, начиная с конца 1918 года, частенько к нему захаживал со своими горестями и радостями и всегда уходил от него, зараженный новой свежей силой и верой в жизнь. Бывало, когда придешь к нему, — если застанешь его сидящим, — он быстро встает и бодрой походкой, с сияющим и добрым лицом, идет навстречу. Только в последнее время, с осени 1920 года, он стал частенько прихварывать и тогда принимал у себя в комнате, в постели, но все же весело говорил: «Немножечко сердце пошаливать стало… ну, это ничего, скоро пройдет».
Любил он рассказывать о своих молодых годах и о заграничной жизни и всегда говорил с увлечением. Болел душой за тяжелые переживания русского народа, но при этом прибавлял: «Все случившееся сделает громаднейший переворот в жизни народа и выведет его на широкий путь». Частенько беседовали мы с ним о кооперации; он не одобрял политики государства, когда оно вмешивалось в жизнь и работу кооперации, и говорил, что «кооперации государство должно помогать, а не мешать».
П. А. любил музыку и пение русских песен. Изредка к нему приезжали сестры Денисовы и пели ему русские песни. В это время он весь преображался и сиял. Семейная жизнь его была трогательна. Он очень внимательно относился к Софье Григорьевне и был очень нежен с дочерью, и Софья Григорьевна к нему относилась с большим вниманием и заботливостью и часто себе во многом отказывала, чтобы получше накормить Петра Алексеевича. И, может быть, благодаря такой преданной заботливости жены, он и прожил до 78 лет.
П. А. сильное впечатление произвел и на мою уже старушку-мать, которая, по неграмотности своей, никаких его писаний, конечно, не знала. Ей случалось бывать у Кропоткиных в отсутствие Софьи Григорьевны, и мать потом часто мне рассказывала, как Петр Алексеевич радушно принимал ее, показывал ей свою комнату и книги и рассказывал про заграницу, — как он там жил и как там люди живут. И когда я шел в Дмитров, она мне часто совала лепешки или еще какой-нибудь деревенский гостинец для Петра Алексеевича, говоря при этом: «Ведь он очень хороший старичек; таких забывать не надо». И Петр Алексеевич через меня обычно посылал и ей привет.
Бывая часто в доме Петра Алексеевича, я знал, как шло его домашнее хозяйство. В связи с общим недостатком продовольствия, Петр Алексеевич тоже испытывал нужду, но когда ему был предложен кремлевский паек, он один или два раза получил его, а затем отказался. В 1920 году он стал получать литераторский паек, но и это ему не очень нравилось.
Вообще всякие привилегии его сильно тяготили, и он все время стремился устраиваться самостоятельно. И говорил: «Если хватит нам продовольствия от этой получки, то в следующую получать не надо»…
Помню, что ему присылали продовольствие с Украйны, иногда помогали кооператоры или привозили подарки приезжавшие к нему иностранные гости. Но все это делалось не регулярно, да и он к этой помощи относился очень осторожно. Вместе с тем от людей, которые ему казались близкими и делали приношения от доброго сердца, он принимал их совсем легко и просто.
Помню, как-то кустарная артель предложила Петру Алексеевичу книжный шкаф своей работы. Он был смущен и, отозвав меня, советовался, как быть. Я убедил его, что от кооперативной организации принять такой подарок можно.
На свое же, самостоятельное, хотя и маленькое хозяйство Петр Алексеевич и Софья Григорьевна обращали большое внимание. Основой его была корова и огород. Часто им приходилось, сокращая свои потребности, продавать молоко, чтобы купить для Петра Алексеевича яиц или немного мяса. Огород они разработали в 1919 году и он им сослужил большую службу. Софья Григорьевна отдавала столько любви, труда и заботы этому делу, что достигла в 1920 году больших успехов, и их огород с очень разнообразной культурой мог служить образцом. Особенно поражала в нем правильность и аккуратность работы, что Софья Григорьевна сама объясняла тем, что она естественница по образованию.
Всю физическую работу по огороду приходилось выносить ей, потому что Петр Алексеевич, по болезни сердца и преклонным летам, не мог в ней участвовать. Но зато я часто заставал Петра Алексеевича и Софью Григорьевну вместе разбирающимися в английских и французских руководствах по огородничеству. Руководясь научными выводами, Петр Алексеевич, однако, никогда не пренебрегал советами и указаниями местных людей-хозяев. Так помню, когда садили картофель, мне пришлось указать, что расстояние при посадке слишком мало, и это будет мешать правильному окучиванию. Совет Кропоткины приняли во внимание и потом были довольны. Труд не пропал даром и давал им возможность иметь для стола все овощи. И Петр Алексеевич за столом часто говаривал: «Это выращено трудом Софьи Григорьевны».
Весной 1920 года они вздумали несколько расширить хозяйство — завести кур, так как яйца были необходимы при болезни Петра Алексеевича, а покупать их было трудно; кроме этого Петр Алексеевич жаловался, что скучно как-то, когда не слышно голоса петушка. Принес я им петушка, а потом и курочку.
С этим петушком Петр Алексеевич подружился и, часто выходя гулять, кормил его овсом и любовно с ним разговаривал. Он внимательно наблюдал за птичьими нравами и находил в петухе много кокетства, а в курочке подмечал ревность.
Вообще Петр Алексеевич любил водить дружбу с животными, разговаривать с ними и ласкать их.
Последние годы своей жизни Петр Алексеевич писал «Революционную этику». Эта работа протекала при очень тяжелых условиях, — он принужден был временами сам переписывать свои рукописи на пишущей машинке, так как за неимением средств не мог приглашать машинистку.
Это замедляло его литературную работу. Некоторое время, до мая месяца 1920 г., перепечатывала его рукописи машинистка Дмитровского союза А. А. Суворова, но с ее отъездом на родину в мае месяце П. А. остался в этом отношении без всякой помощи.
Мною от имени союза предлагалась Петру Алексеевичу такая помощь, но он от этого отказывался, ссылаясь на недостаток машинисток в самом союзе.
Последняя встреча с Петром Алексеевичем была у нас 14 ноября 1920 года на собрании уполномоченных Дмитровского союза кооперативов. После этого, через неделю, руководителей союза арестовали вместе с ответственными работниками неторгового отдела, и таким образом, были прерваны наши отношения с Кропоткиным.
Мое общение с Петром Алексеевичем оставило во мне глубокий душевный след. Он влиял на нас не только, как ученый и культурный деятель, но и как высоко-нравственный и кристальной чистоты человек. Его влияние особенно сильно отражалось на нашем душевном складе; он будил всем существом своим человека в человеке. Вот что его поднимало на такую большую нравственную высоту. Вечная, вечная память тебе, дорогой наш Петр Алексеевич!..
Бутырская тюрьма,
5 марта 1921 года.
В. Рыжов.
III.
Мне приходилось встречаться с П. А. Кропоткиным только в последние два года его жизни. Он проживал в то время в Дмитрове, куда переехал летом 1918 года. Здесь он жил в уединении и тишине глухого уездного городка и продолжал свою литературную работу, насколько ему позволяли силы. Летом 1918 года я вела культурно-просветительную работу в Дмитровском союзе кооперативов, в частности, в молодом только что затеянном деле изучения местной жизни и создания музея дмитровского края.
Несмотря на свою старость, П. А. не только горячо относился к нашей работе, но и сам принимал в ней живое участие и сумел внести в нее много ценного и от себя.
Особенностью П. А. было его открытое, сердечное и простое отношение к людям, и потому даже мимолетные встречи с ним оставляли глубокое впечатление. Самая внешность его сразу располагала к нему всякого. Серебристо-седые волосы и пушистая широкая борода придавали ему вид патриарха, но добродушное лицо почти без морщин и ясные живые глаза были совсем не стариковские. А в движениях было столько живости, подвижности, иногда почти мальчишеской резвости, что после первой встречи с ним забывалось, что он старик. Казалось, что он стоит как-то вне возраста: и молодой, и старый в одно и то же время.
Поражала его изысканная вежливость при встречах с людьми, даже совсем ему посторонними… Он снимал шляпу и кланялся так радушно, пожимая руку с такой приветливой улыбкой, точно самый факт встречи двух людей являлся уже радостным событием. И после встречи с П. А. казалось, точно вам подарили что-то хорошее без всякой заслуги с вашей стороны. Дома он встречал также радушно и приветливо всех, как старых друзей, шутил и смеялся с детской ясностью, любил вспоминать времена своей юности, свое путешествие по Сибири, бегство из тюрьмы, скитание за границей. И видно было, что картины эти до сих пор остались в его памяти живыми и яркими, как и в те давние времена, когда это происходило.
В первый раз меня очень поразило в нем уменье сохранять в памяти картины молодости во всех деталях и живую молодую душу до 78 лет, а потом все это стало казаться естественным, точно иначе и быть не могло.
Внешнее обаяние его испытывали все, приходившие с ним в соприкосновение.
Вот как рассказывает о П. А. крестьянка, служившая в музее: «Приходил, говорит, без вас старичек, спрашивал вас, — такой хороший старичек, чистенький, такой легонький, ну, прямо святой старичек. Я сказала ему, что вас нет. — Ну, говорит, кланяйтесь, да скажите, чтобы заходила. Называл он как-то себя, да я забыла. Только уж очень он интересный, ну, прямо, вот как святой».
С работой музея П. А. познакомился очень скоро после своего переезда в Дмитров. В это время, летом 1918 г., собирались коллекции по природе края, и П. А., как геолог и географ, сам проявил интерес к нашему делу и желание познакомиться ближе с работой, находившейся еще в стадии подготовительной, лабораторной.
Как сейчас помню большую, угрюмую комнату с печкой посредине, всю заваленную всевозможными материалами. С одной стороны, столы с камнями, с другой — на полу папки с растениями, мхи, лишайники, ветки деревьев, с третьей — аквариумы, баночки с насекомыми, садки с гусеницами. И посреди этого хаоса подвижная, элегантная, европейская фигура П. А. и жены его Софьи Григорьевны. Оба они внимательно вникают во все мелочи, слушают и задают вопросы, вспоминают английские музеи, дают советы и уходят, ободрив нас и своим вниманием, и обещанием своей помощи в будущем. И действительно, с этих пор П. А. является деятельным участником работы музея. Совсем вскоре после первого посещения, П. А. зашел второй раз в музей, но никого здесь не застал (мы были на экскурсии) и оставил свою визитную карточку.
Перед открытием музея для публики, он внимательно просматривал, как специалист, отдел геологии и давал свои советы, затем принимал участие в заседаниях болотной комиссии, председательствовал на музейных совещаниях, наконец, осенью 1920 года выступал с докладом о задачах музея на съезде учащих. И это было не простое формальное участие: болотной комиссии он делает доклад по ледниковому периоду, а на совещании он предлагал простой и остроумный способ увеличивать карты. В конце заседания он тихо извинялся предо мной в том, что «плохо председательствовал», мотивируя это тем, что «у нас, анархистов, председателей не бывает».
Доклад же на съезде учащих был серьезно разработан им предварительно и записан. Это — простой, непосредственный рассказ о своей работе в молодости в сибирских музеях, и заключение, полное горячей веры в будущность нашего музея. Большого труда стоило П. А. добраться в этот день до места съезда, так плохо было у него сердце, и все же, несмотря на свое недомогание, он остался и на другие доклады и после них внес свое предложение, чтобы музей составил список того, что из его коллекций может быть использовано школой. Да и, помимо публичных выступлений, все время чувствовалось постоянное ободряющее внимание П. А. к нашему делу. То он принесет зубы лошади, найденные им, то обратит внимание на известковую плиту, отысканную у него на огороде, то даст два-три листочка с выписками географического характера, интересных, по его мнению, для музея.
При этом П. А. никогда не показывал себя ученым специалистом, подавляющим своим авторитетом. Нет, перед нами был товарищ с живым проницательным умом и чутким вниманием к делу. Мне кажется, и все его отношение к науке заключалось в непосредственном глубоком интересе к окружающей природе и жизни; опираясь на свой зоркий глаз и глубокий ум, он не боялся делать смелые предположения, давшие такой толчок в вопросе о ледниковом периоде.
Он любил вспоминать свое путешествие по Финляндии, которое убедило его окончательно в правильности его предположений по этому вопросу.
Один, с котомкой за плечами, с карандашем и записной книжкой, он пересек Финляндию с севера на юг, делая в день по 10–15 верст, останавливаясь и исследуя по дороге каждую скалу, каждый камень, каждый обрыв, допытываясь, какого они состава, какого происхождения, что они из себя представляют. И он записывал и зарисовывал все виденное.
И на основании виденного П. А. пришел к твердому убеждению о существовании древнего ледника, когда-то покрывавшего Финляндию и Россию. Здесь зоркий глаз сослужил ему лучшую службу, чем изучение литературы, кабинетные исследования, длительные изыскания. Так природа сама давала правдивый ответ на прямой и глубокий вопрос.
Живая наблюдательность сохранилась у П. А. и до последнего времени. Когда заходил вопрос о далеком прошлом долины Яхромы, он не спрашивал, каков ее уклон, из чего состоят ее берега, — он говорил: «Да ведь она сама отвечает на этот вопрос. Вы посмотрите на нее в половодье с Подлипецкой горы. Ведь она превращается в сплошное громадное озеро. Ну, и раньше на ее месте было озеро, это ясно».
Когда он увидел в музее клыки мамонта, и я сказала, что находки их часты в северной болотистой части уезда, он заметил: «ну, конечно, они тонули в тех непроходимых болотах, которые были здесь после ледника, тонули и погибали. Естественно, что здесь и должны быть их находки».
И я почувствовала, что и болота эти, и мамонты были для него живые, реальные, яркие картины.
Трогательно было обращение П. А. с детьми. К нему приходили два крестьянских мальчика, умных, живых, интересовавшихся серьезными вопросами. П. А. охотно с ними беседовал, давал им советы, руководил их чтением. Думаю, что посещения эти оставили в детях глубокий след на всю жизнь.
Да и в нас, знавших П. А., не пропадут искорки от его любовного живого внимания ко всему: и к людям, и к природе, и к жизни.
Бутырская тюрьма,
12 февр. 1921 г.
А. Шаховская.
Последние дни П. А. Кропоткина
Воспоминания сестры милосердия.
Мои воспоминания о последних днях жизни Петра Алексеевича не внесут нового света ни в его социалистическое учение, ни в его философское мировоззрение: они могут быть ценны, лишь как последнее воспоминание о нем, об его обаяньи, силу которого, думаю, пришлось испытать каждому, кому посчастливилось знать его.
Я не могла непосредственно записывать все слова и рассказы П. А. за неимением свободного времени, но они хорошо сохранились в моей памяти, и я записала их тотчас после похорон П. А. Соблюдать хронологический порядок по дням мне не удалось, так как во время ухода за больным, когда ночи превращаются в день, представление о времени, о днях теряется.
Но мне кажется, это не так важно.
Я приехала в Дмитров 19 го января 1921 г. днем с дочерью П. А-ча Александрой Петровной, которая просила меня поехать в Дмитров в качестве сестры милосердия, на что я тотчас же согласилась. Накануне с П. А. было два сердечных припадка. Я думала, что найду его в очень тяжелом состоянии, совсем беспомощным, и была обрадована, увидав его, хотя и слабым, но в полном сознании, веселым и сравнительно бодрым. Он вспомнил меня и ласково встретил. С нами из Москвы, с тем же экстренным поездом, приехали врачи в числе шести человек, — количество, по словам одного из них, достаточное, чтобы отправить на тот свет кого угодно. В маленькой комнате П. А., где он лежал, при осмотре было так тесно, что решительно негде было повернуться. Осмотр, видимо, утомил П. А., но он терпеливо вынес его, благодарил каждого из врачей, извиняясь за доставленное им, против его воли, беспокойство. Выслушав П. А., профессор Плетнев был поражен совершенно молодой и свежей кожей П. А. и вспомнил по этому поводу знаменитое изречение о здоровом духе в здоровом теле. Выслушав утешительное заключение проф. Щуровского о состоянии своего здоровья, П. А. сказал, что до сих пор у него была уверенность, что болезнь его это приближение конца, а умирать ему еще не хотелось: хотелось еще работать. Он покорно согласился со всеми назначениями врачей (просил лишь не ставить ему мушек) и обещал во всем слушаться их и меня, как исполнительницу их требований, и энергично решил выздоравливать.
Первые дни болезни он был в довольно возбужденном состоянии, двигался порывисто, никак не хотел помириться с тем, что не может и не должен обходиться без посторонней помощи. Со мной он быстро освоился и привык ко мне. Звал он меня «Нерсинькой» (от Nurse) или «сестричка дорогая» или просто «Катей». По поводу моего имени он вспомнил, что мать его тоже звали Катей, и тут же рассказал о ней и попутно о жене Александра II, женщине, к которой, после матери, он испытал сыновнее чувство. Вот его рассказ, как я его помню, кажется, довольно точно; конечно, он был рассказан отрывками, прерываемый моими убеждениями меньше говорить, в чем ему трудно было помешать, да и лечивший П. А. проф. Плетнев разрешил с ним потом говорить на неволнующие его темы, так как принудительное молчание на него тягостно действовало, порождая навязчивые мысли…
«Мою мать тоже звали Катей, Екатериной Николаевной. Я был маленький, когда она умерла, — мне было 3 года, — но воспоминание о ней самое для меня святое. Она была красивая: темно-русая с карими глазами. Я на нее не похож. Любила танцовать, ездить по балам. У меня был ее портрет, писанный французским художником. Я его очень берег. К сожалению, его у меня взяла одна моя племянница. Сказала, что отдаст мне, когда я перестану кочевать, оснуюсь на месте. И у меня он был бы цел до сих пор, а у нее его теперь отобрали, и я хлопочу, чтобы мне его вернули.
Еще к одной женщине я испытал чувство сына к матери, это к жене Александра II-го Марье Александровне. Помните, у меня в воспоминаниях о ней есть? Я, маленький, был на придворном балу в костюме персидского принца. Должно быть, он шел ко мне. Я понравился Николаю, он поставил меня на стол, чтобы показать всем. А потом, как маленький ребенок без матери, я почувствовал себя одиноким, устал и искал, куда приютиться. Сидела тут же жена Александра II, тогда цесаревна; она в то время ждала сына. Я прикурнул у нее на коленях и заснул. Она просидела весь вечер, не сходя с места, чтобы меня не разбудить. Потом, когда я был камер-пажем царя, мне приходилось с ней часто встречаться. То время было время новых идей, новых исканий, новый мир открывался. Бог по боку, религия по боку… Александр для нас, мальчиков, еще был окружен ореолом реформ. Как-то, во время экзаменов, прибегает ко мне Штакельберг, камер-паж императрицы. „Кропоткин, милый, хороший, замени меня на дежурстве, мне еще столько вызубрить надо, милый, дорогой“. Ну, я за него и пошел. Царица должна была принимать американского посла. Ей надо было проходить через холодные комнаты, и на ней была накинута горностаевая накидка; я должен был снять ее с нее, а потом опять надеть, и когда я помогал ей ее накинуть, мне вдруг захотелось ей сказать, что я к ней привязан, как к матери, но подумал, — скажут, что я подлизываюсь, и промолчал… Другой раз, опять во время экзаменов, я заменял при ней Штакельберга, на приеме городских дам и девиц. Она так хорошо себя держала, — девицам позволила поцеловать руку, а дамам пожала, а поцеловать не дала. Я, кажется, должен был ей подать веер или что-то в этом роде. Она спросила, где Штакельберг, и, узнав, что он готовится к экзамену, сказала мне: „А вам, Кропоткин, верно, это ничего не стоит, вы так хорошо учитесь?“ Я ответил: „Мне тоже придется заниматься, но, чтобы оказать вам какую-нибудь услугу, я готов не поспать ночь“. Я видел, что ей было приятно, что такой молоденький мальчик ей так сказал. С ней очень плохо обращались. Когда Александр женился на Долгоруковой-Юрьевской, ее просто третировали. Когда до Александра II дошло известие о том, что она умирает в Сан-Ремо, он боялся ехать уже тогда и выписал ее. Ее привезли умирающей. Я слыхал от врачей, что на ней было грязное белье, комнаты ее не проветривались, не были убраны. Долгорукову описал Тургенев в „Дыме“. Она была хорошая наездница. Раз в манеже мне пришлось выезжать на ее лошади. Лошадь была очень выезжена, слабоуздая, слушалась малейшего движения. Я не знал ее, потянул повод. Она закинулась назад. Я понял, что, если не спрыгну, она убьет меня. Сбросился с нее, — ко мне бегут. А лошадь переломила спину. Ее пристрелили. Странная у меня была встреча с дочерью Долгоруковой. За границей (кажется, в Locarno) я встретился с ней. Мы с ней много говорили. Она не осуждала нас за то, что мы убили ее отца. Меня поразила ее рука. Я все припомнить хотел, где я видел эту руку? Очень широкая, короткая кисть. И вспомнил, наконец, что это рука Александра II, ее отца. Я когда-то так хорошо знал эту руку»…
Помню, я наливала горячий чай из термоса; П. Ал. рассказал о происхождении термоса: «Его изобрел один коммунар, когда коммунары жили в изгнании в Англии. Он изобрел его для Луизы Мишель. Луиза Мишель была и немолодая, и некрасивая, но такая добрая и хорошая, что все ее любили. Вот этот коммунар хотел сделать ей что-нибудь приятное. Она любила по утрам горячее кофе, и вот, чтобы Луиза могла утром в постели выпить горячего кофе, он выдумал эту бутылку. У него не было средств, конечно, для распространения своего изобретения. Его у него приобрел какой-нибудь богатый предприниматель и, верно, хорошо нажился».
Как-то П. А. рассказал историю своих зубов. Они выпали еще в крепости, после цынги. Цынга и потом его часто мучила. В Англии он решил однажды заказать себе челюсти; пошел к дантисту, тот дал ему укусить воск, чтобы примерить ширину…
Я кусал, кусал, — все мало. Никак он к моей славянско-монгольской челюсти подобрать не мог. Наконец, сделал он мне челюсть, привинтил. Я пришел домой, а Саша увидала меня и как закричит: «„Папа — Карьер!“ — знаете из „Домби и Сына“. Я их снял и отнес обратно. Так больше и не пробовал других».
П. А. говорил о своей любви к музыке. Он сам любил играть, когда его никто не слушал. Играл «Норму» Беллини. Ее играла его мать. Любил «Жизнь за царя». С восторгом вспоминал игру Б. Ф. Лебедева, этюды для левой руки Скрябина, которые тот играл в последний раз. Про свою игру сказал, что ему вредно много играть, так как игра его очень волнует: «Последний раз я играл почти два часа подряд и разволновался до слез. Верно играя и простудился». Когда в начале болезни наступило улучшение, он попросил меня ему поиграть, и хотя техника у меня очень неважная, музыка доставила ему громадное удовольствие и разогнала мучившие его навязчивые мысли.
Уже в конце болезни, когда он был очень слаб, ему вдруг захотелось, «чтобы Дунечка пришла и помурлыкала». К сожалению, Е. Д. Денисовой, исполнявшей роль курьера между Москвой и Дмитровом, уже не было в Дмитрове…
П. А. преследовали часто навязчивые мысли, которые утомляли его: то вдруг ему представлялся большой лист бумаги, на котором что-то написано прямым крупным почерком, и одно слово неразборчиво, — его надо разобрать. То преследовало его умственное «писание»… «Все пишу, пишу и все впустую, и такая чепуха в голову лезет». Это не давало ему спать иногда и ночью. Раз всю ночь он писал план анархической коммуны. Чтобы отвлечь его от этих навязчивых мыслей, я рассказывала ему сказки. Они ему очень нравились. Помню раз, когда я дошла в рассказе до места, где принц зеленой страны встретил принцессу голубой страны, — П. А. радостно воскликнул: «Ça у est!»
Е. Д. Денисова привезла П. А. звонок, чтобы он мог позвать, если бы ему понадобилось что-нибудь; это было, когда ему стало гораздо лучше и когда думали, что он поправляется окончательно, — поэтому я должна была уехать в Москву. Я его просила не пробовать самому брать что-нибудь и подниматься, а звонить, чтобы кто-нибудь подошел и помог. Он вспомнил, как в детстве у них был колокольчик, изображавший даму в широких юбках, и они, дети, звали ее «тетенькой Елизаветой Петровной», так как у тетеньки тоже были тяжелые юбки, и она также их с боков поддерживала, и П. А. представлял, как она это делала. Я уезжала в Москву, думая, что увижу Петра Алексеевича уже выздоровевшим. Мне было грустно с ним расставаться, так я к нему привыкла и столько в нем — и больном — было очарованья. Но было радостно видеть его поправляющимся. На прощаньи я с особой нежностью поцеловала его руку, а он поцеловал мою, и я обещала приехать через два дня. Пробыла я в Москве, кажется, шесть дней и вернулась в Дмитров, вызванная Софьей Григорьевной. С П. А. было что-то вроде нервного удара. Он потерял на несколько часов способность говорить. Но опять, как и в первый раз, я нашла его более бодрым, чем ожидала. Мне кажется, его необыкновенная душевная доброта давала ему эту бодрость из боязни огорчить других. Он встретил меня словами: «А я вас все ждал во вторник, а вы не приехали. А я без вас тут всех напугал, замолчал». Я спросила его о самочувствии. Потом, увидав звоночек на столе, спросила, пользовался ли он им? «Нет, конечно, — отвечал П. А., — ведь я анархист, а звонок — проявление власти».
Я имела дело со многими, многими больными, но совершенно беспристрастно могу сказать, что такого терпеливого, такого заботливого больного не видала. Во всю его тяжелую болезнь, я не слыхала от него ни одного раздраженного слова; постоянно он заботился о том, чтобы не доставить лишних хлопот, чтобы дать отдохнуть окружающим близким. Мне вспоминаются о нем слова старушки Марьи Филимоновны, дмитровской прислуги: «Такой хороший старичок был, всегда у него для всякого улыбочка найдется». Даже больной, он сохранил эту «улыбочку» почти до самых последних дней болезни. Как-то мы перекладывали его, меняли белье; он был уже очень слаб, и это перекладывание — всегда тяжелая для больного процедура. Он ни разу ни на что не пожаловался, только вздохнул и сказал: «Как тяжело, что стольким хорошим людям доставляю беспокойство». Вечером, выпив на ночь чаю, он укладывался спать. Ему нравилось, как я его укрывала: он просил: «ну, теперь уложите меня по-своему и шарф мне наденьте, который шведы прислали, и сами свернитесь в клубочек. Оттого казак гладок, что поел, да и на бок». Ночью я сидела на стуле около его кровати и иногда дремала, положа голову на край кровати у его ног. Раз, помню, я вижу, что он не спит, и лежит очень тихо, я встала, чтобы спросить, не хочет ли он пить? «А я все думаю, задремали вы или нет, вы так тихо дышите, и все боялся пошевелиться, чтобы вас не разбудить». Как-то в порыве нежности я сказала ему, что он «прелестное маленькое дитя». П. А. засмеялся, а потом сказал, что это великое свойство женщин видеть во всяком человеке ребенка. «Какие хорошие женщины — русские женщины», — и он вспомнил, что недавно перечитывал «Русских женщин» Некрасова.
В последние дни болезни на П. А. напало полное равнодушие. Ему было все равно. Он ни на что не жаловался, лежал, молчал, ничего не просил. И на вопрос, как он себя чувствует, отвечал: «Полное ко всему равнодушие». И все же и тут в нем сохранилось бережное отношение к окружающим. Раз я сидела у стола и, видя, что он лежит с открытыми глазами и не спит, я пододвинула стул к кровати, чтобы посидеть с ним рядом, и спросила: «Посидеть с вами или тоже все равно?» Он был уже очень слаб тогда, но взял мою руку, поцеловал и сказал: «Нет, совсем не все равно, а очень приятно». Как-то я спросила его, очень ли он устал лежать? Он ответил: «Нет, вот когда курьером, бывало, едешь несколько сот верст и нельзя вытянуться, тогда хуже бывало». Как-то незадолго до конца он долго лежал молча, потом промолвил: «Какой тяжелый процесс — умирание». При его нежной коже его очень мучили уколы. В особенности, когда их пришлось участить. Он жаловался, что доктора его мучат. «И вы тоже хулиганкой стали, — опять меня мучите». Я просила его за это на меня не сердиться. «Так я же знаю, вы не хотите меня мучить, а потому, что надо». А потом шутя прибавил: «А впрочем, женские уколы никого не ранят». Помню, меня и доктора Атабекьяна очень обрадовала эта шутка. Промелькнула надежда, что, может быть, еще не все кончено. Но это были проблески жизни в полном общем равнодушии к жизни, так замечательно описанном Толстым в смерти Андрея Волконского. И до самого конца, мучительно долгого, ни одной жалобы. Только в глазах все время была какая-то просьба и страдание. Я старалась угадать, что он хочет, но он все время молчал. Может быть, ему было тяжело видеть горе близких, дочери и жены, благородно мужественно переносивших свое горе…
Е. Линд.
П. А. Кропоткин, как теоретик био-социологического закона взаимопомощи
В 1859 году появилось в свет известное сочинение Чарльза Дарвина «Происхождение видов». В этом произведении Дарвин формулировал, как известно, свой биологический закон борьбы за существование. Теория Дарвина произвела полный переворот во всем научном мировоззрении девятнадцатого века, и ее выводы стали считаться незыблемой основой всего естествознания. Дарвин и его последователи утверждали и доказывали, что «борьба за существование» или «борьба за жизнь» является основным законом биологии и главным фактором прогрессивной эволюции всего животного мира.
Влияние дарвинизма не ограничилось только областью естественных наук, но очень скоро идея борьбы за существование проникла и в область наук социальных. Многие социологи, экономисты и историки стали рассматривать общественную жизнь людей и весь исторический процесс с точки зрения дарвинизма и в своих сочинениях стремились доказать, что закон борьбы за существование царит также и в мире людей и является главным законом прогресса и исторического развития народов.
Победа дарвинизма, понимаемая в его узком смысле, в эпоху семидесятых и восьмидесятых годов прошлого века была на столько полной, что никто не осмеливался подвергнуть сомнению истинность и действительность этой теории и усумниться в прогрессивном и благодетельном значении борьбы за существование, хотя очень многие чувствовали всю безнравственность этого закона в приложении его к человеческой жизни. Великий русский писатель и моралист Лев Толстой один из первых возмутился безнравственностью закона борьбы за существование и еще в своем знаменитом романе «Анна Каренина» устами Левина высказал протест против этого закона и даже отрекся, благодаря этому, от самой науки. «Закон природы, — рассуждал Толстой, — не может противоречить законам нравственности и разума, а борьба — безнравственна и неразумна, а потому она не может быть истинным законом жизни; если же наука признает этот закон основным законом жизни, то эта наука не настоящая, а ложная».
Но критика Толстого не была обоснована научно и поэтому была мало убедительна для большинства людей, тем более, что почти все ученые, приводя бесчисленные примеры из жизни разнообразных животных и людей, доказывали вполне ясно и определенно, что борьба за существование является биологическим фактом и что оспаривать его бесполезно и ненаучно.
Но вот осенью 1890 г. в английском научном журнале «Nineteenth Century» появляются очерки П. А. Кропоткина под заглавием: «Взаимопомощь среди животных», а весной 1891 г. в том же журнале его статья «Взаимопомощь среди дикарей». В этих статьях П. А. выступает с смелой критикой общепринятых положений дарвинизма и доказывает, что основным законом жизни и прогрессивным фактором эволюции является вовсе не закон борьбы, а закон взаимной помощи. Многочисленными и красноречивыми примерами, взятыми из жизни самых разнообразных животных, насекомых и птиц, П. А. строго научным образом обосновывал и подкреплял свои выводы и утверждал, что те виды животных, у которых индивидуальная борьба доведена до минимума, а практика взаимной помощи достигла наивысшего развития, оказываются неизменно наиболее многочисленными и наиболее приспособленными к дальнейшему прогрессу. В своих очерках о взаимопомощи среди животных П. А. говорит, что только благодаря недостаточно внимательному наблюдению ученые исследователи могли сделать заключение, что в мире живых существ царит, главным образом, борьба и соперничество, тогда как более близкое знакомство с жизнью большинства животных приводит исследователя как раз к обратному заключению, т.-е. к признанию, что среди почти всех видов животных взаимная помощь и взаимная поддержка являются господствующими фактами.
Интересно отметить, что после появления этих статей П. А. в печати никто из дарвинистов не осмелился выступить с критикой взглядов П. А., и тот же Гёксли, незадолго перед этим утверждавший в своей нашумевшей лекции в Оксфордском университете, что весь мировой процесс, включая сюда и человечество, есть не что иное, как «кровавая схватка зубами и когтями», обошел молчанием появление статей П. А.
В 1892–1894 г.г. в том же журнале «Nineteenth Century» появился еще ряд очерков П. А., в которых он разбирал вопрос о взаимопомощи среди варваров и в эпоху средних веков, а в 1902 г. на английском языке вышла книга П. А. — «Взаимопомощь, как факт эволюции»[20].
В этой книге П. А., описывая общественную жизнь различных насекомых, птиц, животных, первобытных людей, варваров и современных цивилизованных народов, красноречиво доказывает, что взаимопомощь является тем связующим цементом, без которого невозможна никакая общественная жизнь и вообще невозможна никакая организация. «Природа не делает ни одного движения, — говорит П. А., — общество не выполняет ни одной цели, космос не подвигается ни на шаг вперед без зависимости от кооперации… Согласно биологическим законам, — продолжает далее П. А., — только в соединении друг с другом, — будут ли то соединения атомов, клеточек, животных или человеческих существ, — могут индивидуальные единицы совершать какой-либо прогресс, и создание таких соединений является во всяком случае первым условием прогрессивного развития».
Таким образом, П. А., выдвигая свою теорию взаимопомощи и солидарности, подрывал основы «дарвинизма» в его узком толковании и заставлял всех естественников пересмотреть тщательнее свои теории и утверждения относительно прогрессивного значения борьбы за существование, понимаемой, как «схватку когтями и зубами».
Теория взаимопомощи не явилась у П. А. плодом книжных и чисто теоретических изучений, но она была результатом его долголетних научных исследований и размышлений. Еще в период 1864–1866 г.г., т.-е. вскоре после выхода в свет «Происхождения видов», П. А., путешествуя по Сибири и Дальнему Востоку, и будучи под свежим впечатлением книги Дарвина, старался отыскать среди сибирских животных то обостренное соперничество между животными одного и того же вида, на котором Дарвин строил свой биологический закон. Однако, наблюдения над жизнью животных восточной Сибири показали как раз обратное: «Многие животные и птицы, — говорит П. А., — объединялись между собою в большие стада или стаи, чтобы совместно бороться против неблагоприятных естественных условий».
Под впечатлением этих наблюдений у П. А. уже тогда возникла мысль о том, что наряду с законом борьбы за существование в животном мире существует также и закон взаимной помощи. Однако, в то время П. А-чу не удалось формулировать и обосновать этот закон, так как он в эту эпоху был поглощен всецело чисто-географическими исследованиями и работами в области геологии. К вопросу о взаимопомощи он вернулся только спустя двадцать лет после этого, а именно в 1883 г., когда он, сидя во французской тюрьме (куда он попал по проискам и настоянию русского правительства) стал перечитывать сочинения Дарвина. Но и на этот раз ему не удалось разработать вопрос о взаимопомощи, так как он в это время был занят обоснованием своей социальной теории анархического коммунизма. И только в 1888 г… живя уже в Англии, П. А. приступил к систематическому изложению своих идей по вопросу о взаимопомощи в животном мире.
Доказав существование закона взаимопомощи среди животных, П. А. распространил этот закон и на социальную жизнь людей. «Общественная жизнь людей, — говорит он, — зиждется на сознании, хотя бы инстинктивном, человеческой солидарности, на тесной зависимости счастья каждой личности от счастья всех и на чувстве справедливости.»
Развивая эти мысли в ряде очерков — «Взаимопомощь среди дикарей», «Взаимопомощь среди варваров», «Взаимопомощь в средневековом городе» и, наконец, «Взаимопомощь в современном обществе», П. А. доказывает, что взаимопомощь и солидарность являются главным фактором общественной жизни и что действительный прогресс и культура создаются только при помощи этих факторов.
Несмотря на сокрушительные силы централизованной государственной власти, несмотря на все учения индивидуализма и проповедь борьбы, — взаимопомощь и солидарность, по мнению П. А., всегда практиковались и практикуются народными массами в своей повседневной жизни, и «даже в наши дни, — говорит П. А., — когда крайний индивидуализм, т.-е. забота прежде всего о самом себе, проповедуется словом и делом, даже теперь, как только мы начнем присматриваться к жизни народных масс, нас поражает прежде всего та огромная роль, которую играют в человеческой жизни даже в настоящее время начала взаимной помощи и взаимной поддержки»… «Без взаимной помощи, — замечает П. А. в другом месте своей книги, — человечество не могло бы прожить даже нескольких десятков лет».
В опровержение буржуазно-экономической теории Мальтуса о том, что среди людей должна неизбежно существовать жестокая борьба за жизнь, так как эта борьба представляет результат того факта, что размножение людей на земле идет гораздо быстрее размножения продуктов питания, — П. А. еще в своей книге «Завоевание хлеба» (или «Хлеб и Воля») доказал, на основании статистических данных, что человек увеличивает свою производительную мощь гораздо быстрее, чем он сам размножается. Так, например, в Англии с 1842 г. по 1892 г. население увеличилось на 62 % а его производительность возросла по меньшей мере на 130 %. Во Франции, где население увеличилось меньше, чем в Англии, рост богатства и производительности шел не менее быстро, чем в Англии. «Несмотря на кризис сельского хозяйства во Франции, — говорит П. А., — несмотря на препятствия со стороны государства, производство пшеницы во Франции за последние 80 лет учетверилось, а производство промышленное более, чем удесятерилось… и это несмотря на то, — добавляет П. А, — что в Англии и во Франции тысячи людей занимаются в то же время самым непроизводительным трудом, тысячи людей ведут жизнь паразитов и эксплоататоров».
П. А. глубоко верил в творчество и созидательную мощь народных масс и он утверждает, что все экономические и социальные учреждения, поскольку они являются результатом свободного творчества народных масс, происходят из вечно живой склонности человека к взаимной помощи и являются результатом общественной солидарности.
«Чувство взаимопомощи, — говорит П. А., — ищет и в наше время путей для проявления своей силы; оно ищет средств для создания новых социальных учреждений, которые уже не будут ни политическим государством, ни средневековым вольным городом, ни деревенской общиной, ни родовым строем дикарей, но, отправляясь от всех этих форм, будут совершеннее всех их по глубине и по широте своих гуманных начал».
В процессе своего развития инстинкт взаимопомощи и чувство солидарности не только расширяются, захватывая все более и более широкие круги людей, но и углубляются. Так из первоначального инстинкта взаимопомощи развилось с течением времени чувство сострадания, симпатии, доходящее у некоторых людей даже до самопожертвования. Взаимопомощь и солидарность способствовали также и зарождению у человека понятия справедливости. Все эти три свойства человеческой природы — взаимопомощь, справедливость и сострадание лежат в основе всех наших этических понятий, и доказательству этого П. А. посвящает свой последний большой труд «Происхождение и основы нравственности», который является как бы синтезом всех научных и социально-политических идей П. А.
Заканчивая свой настоящий очерк, я должен еще прибавить, что П. А., признавая взаимопомощь, как фактор прогресса и эволюции, этим самым не отрицал закона борьбы за существование и не отвергал самую борьбу. Он только расширял и углублял основные теории Дарвина, и, ставя на первое место творческий фактор взаимопомощи и солидарности, видел в нем лишь более этический, более прогрессивный и более действительный способ борьбы за существование.
П. А. признавал, и на этом, я думаю, нет надобности настаивать, что жизнь природы и социальная жизнь людей проникнуты началом борьбы. Борьба есть неизбежная форма человеческой деятельности, и человек, чтобы он ни созидал, всегда наталкивается на естественные, природные или социальные препятствия, которые он так или иначе должен устранить или преодолеть. Борьба необходима и неизбежна, но она благотворна и этически законна лишь в том случае, когда она носит сама творческий характер, когда она разрушает или уничтожает естественные или социальные препятствия, мешающие свободному проявлению творческих сил. В частности, социальная борьба только тогда благотворна и прогрессивна, когда она, уничтожая старые формы социальной жизни, способствует возникновению новых учреждений, основанных на более широких принципах свободы, справедливости и солидарности.
Теория П. А. Кропоткина о взаимопомощи имеет глубокое значение и приложение ее к биологии и социологии будет иметь важные и чрезвычайно плодотворные последствия. Задачей науки ближайшего будущего является раскрытие всего смысла и значения этой теории, которая открывает нам новые обширные горизонты и неизмеримо расширяет современное научное мировоззрение.
Н. Лебедев.
Г. Дмитров, 10 июля 1921 г.
П. А. Кропоткин[21]
В ночь на 8-е февраля в городке Дмитрове, в 60 верстах от Москвы прекратилась жизнь большого человека — Петра Алексеевича Кропоткина. Болезнь его продолжалась недолго. За месяц до смерти с ним случился сердечный припадок, и хотя казалось, что он поправляется, но последовательные припадки привели к фатальному концу.
В маленькой комнате, служившей П. А. кабинетом и спальней, лежало тело одного из величайших сынов России. В продолжение двух дней непрерывные процессии детей, молодых и старых людей, женщин, рабочих и крестьян приходили отдать последний долг любимому согражданину, жившему среди них последние три года. Из простенького домика семьи Кропоткина останки П. А., сопровождаемые всем населением городка и окрестных деревень, были перенесены на станцию Дмитрово. После кратких, прочувствованных, последних прощаний, посланных покойному представителями анархических и местных организаций, тело было отправлено со специальным поездом в Москву.
Масса народа собралась на вокзале в Москве встретить учителя, товарища и друга. Под звуки революционной музыки, под сенью выразительных красных и черных знамен добровольная процессия медленно шла ко Дворцу Труда (бывшее Дворянское собрание).
Семьдесят один год тому назад в этом самом здании П. Кропоткин в первый раз выступил публично. По случаю 25-тилетия царствования Николая I московское дворянство давало в честь царя костюмированный бал, который по своему великолепию должен был остаться в летописях больших дворцовых деяний. Все народности, подвластные русской империи, были представлены в костюмах и знаках отличия своей нации. Молодой 8-летний Петр был одет в костюм наследника персидского престола. При входе царя все подвластные народы выразили низкими поклонами свое подчинение всемогущему правителю России. Поразительная внешность Петра, самого молодого участника этого торжества, привлекла внимание царя. Он взял мальчика и представил его своей невестке, жене наследника престола, ожидавшей тогда третьего ребенка. С привычными ему казарменными манерами царь сказал ей: «вот, какого молодца, мне нужно». Утомленный впечатлениями, маленький Петр уснул на коленях будущей императрицы… Не думал Николай, что в мальчике, представленном, как модель царственному дому, скрыта потенциальная сила, которая со временем решительно расшатает основу царственного строя. Но, конечно, Петр Кропоткин не был единственным ребенком, который рос тогда, чтобы стать со временем русским Самсоном, — были легионы сынов и дочерей России, которые своею кровью оплодотворили землю для окончательного освобождения от царизма. Но Петр Кропоткин был самый великий из всех их.
В 1850 г. Кропоткин заснул в зале Дворянского собрания, в 1921 г. он опять лежит спящим в этом же самом здании. Но вместо царя Николая, наследника престола, будущей императрицы, хозяина и царственных гостей, теперь присутствовал русский народ. Изо всех районов и окрестностей Москвы приходили рабочие, крестьяне, красноармейцы, дети, мужчины и женщины, деятели науки и литературы, — бесконечный человеческий калейдоскоп, чтобы взглянуть в последний раз на своего любимого учителя.
Похороны Петра Кропоткина были самым внушительным явлением, которому я была свидетельницей во время моего пребывания в России.
В воскресенье, 13-го февраля, задолго до назначенного часа, улицы, прилегающие ко Дворцу Труда, были полны народа, пришедшего принять участие в похоронной процессии. Рабочие организации, политические партии и ученые общества были представлены в громадном количестве своих членов. Дворец Труда, где три дня лежало тело Кропоткина, был переполнен. Простой гроб, стоявший на помосте в центре прекрасно декорированного зала, был покрыт венками. Первая и шестая Патетические симфонии Чайковского, — любимые вещи П. Кропоткина, которые он так часто и искусно играл, — были исполнены знаменитым оркестром Московской оперы. Когда тело медленно выносили из Дворца Труда, хор в двести человек пел потрясающий душу Реквием, и звуки «вечной памяти» приветствовали солнечный день.
Девятнадцатое столетие дало миру десятки великих мужчин и женщин. Наука, искусство, литература, революционная мысль и социалистические идеалы имели своих видных представителей. Но в Петре Алексеевиче были соединены почти все свойства, присущие лишь редким умам: универсальный ученый, литератор, революционер с пламенной душой, апостол анархизма, который горячо проповедывал, что только в анархическом обществе — спасение человечества, Петр Кропоткин в то же самое время обладал способностью общедоступного изложения, которая делала его самою блестящею фигурой на горизонте XIX–XX столетий. Его жизнь и работы были высечены из одного целого. Это была симфония, где лейтмотивом была всеобъемлющая любовь.
Происходя из княжеского, царственного рода (Рюриковичей), с блестящею перспективою карьеры, он, однако, с юности стал поборником обиженных и угнетенных. Из тюрьмы, куда он был заключен на своей родине, он бежал и жил за границей во многих странах, преимущественно в Англии. Неизменным принципом его жизни было — не извлекать никакой материальной выгоды из своей анархической деятельности. Все его многочисленные анархические работы — книги, памфлеты и брошюры — он отдавал во имя пропаганды для популярных изданий. Не будет преувеличением сказать, что его памфлеты, например, «Воззвание к молодежи», «Система заработной платы», «Анархизм и коммунизм», «Идеалы русской действительности в русской литературе», «Историческая роль государства» и др., циркулировали в миллионах изданий по разным странам.
В задачу этой статьи не входит определение влияния Кропоткина, как ученого, анархиста и человека. Равно не место в ней для критических размышлений о позиции его по отношению к великой войне. Достаточно заметить здесь, что вместе с большинством анархистов всего мира я не разделяла взглядов нашего великого учителя на европейскую катастрофу. Мы были твердо уверены, что все капиталистические войны реакционны в основе своих причин и империалистичны в сущности своих целей. Эта разница точек зрения товарищей была единственным поводом для нашего расхождения с Петром Алексеевичем.
Проведя 41 год в изгнании, П. А. 17 июня 1917 г. возвратился на родину. Он был встречен с большим энтузиазмом.
Керенский делал неимоверные усилия, примиряя непримиримое: он убеждал Кропоткина войти во временное правительство, предлагая ему на выбор любой пост министра. Кропоткин отказался. «Я считаю ремесло чистильщика сапог более честным и полезным», — ответил он.
После октябрьской революция Кропоткин видел с ясновидением пророка, что революционные усилия народа были отводимы в правительственные каналы и в сторону от идеалов, вдохновлявших массы в период священного подъема первых октябрьских дней. Но Кропоткин не терял действенной энергии. Он энергично и постоянно настаивал на необходимости фундаментальной реконструкции экономической жизни страны на началах безвластия.
Усиленное умственное и физическое напряжение Кропоткина в 1918 году истощило его жизненную энергию и состояние здоровья заставило его, хотя и молодого душою (ему было 76 лет), переехать из Москвы в Дмитров, где он сделался добровольным изгнанником. Отойдя от современной кипучей жизни, Кропоткин жил совершенно изолированно.
Человек, жизнь которого была так богата и разностороння, теперь не имел возможности соприкасаться с ходом мировых событий. За исключением советских изданий, он не имел никаких источников знаний. Лишь несколько журналов доходили к нему иногда из-за границы. И переписка его была скудна. Его бесчисленные товарищи и друзья редко имели возможность посещать его. Последний год его жизни прошел в одиночестве. Он сосредоточился на своей крупной работе об этике. Но даже и для этой работы у него не было достаточного количества научных материалов. Медленный ход этой работы тяготил его мозг. У него не было секретаря, и его стареющие руки не могли долго работать на пишущей машинке. Смерть покончила с ним раньше, чем он со своей работой.
Многие из его друзей и товарищей удивлялись его безмолвию и позиции его по отношению к происходящему в России. Причины этого выясняются в приводимых выдержках из письма к его старому другу.
Дмитров, 2-ое Мая 1920 г.
«Дорогой Александр,
Я возобновил свои работы по вопросам нравственности потому, что считаю, что эта работа абсолютно необходима. Я знаю, что не книги создают умственное направление, но совершенно обратно. Я также знаю, что для разъяснения этой идеи необходима помощь книги, которая выражает базисы мысли в их полной форме. И чтобы положить основание морали, освобожденной от религий, и выше религиозной морали, которая не ждет вознаграждения на том свете, необходимо иметь помощь разъясняющих книг.
Нужда в таких пояснениях чувствуется более настойчиво теперь, когда человеческие мысли борются между Ницше и Кантом (в действительности мораль Канта была религиозной этикой, хотя и была замаскирована „философией“, т.-е. между ницшеанством и христианством).
Замечательно, что Бакунин (я узнал это недавно), когда он после разгрома Коммуны удалился в Локарно, также почувствовал потребность разработать новую этику. Кто-нибудь да сделает это. Но необходимо подготовить почву, и так как я умственно вовлечен в поиски новых путей в этой плоскости, то должно, по крайней мере, наметить этот путь.
Мне недолго жить. Мое сердце делает последние усилия. Сегодня я почти лишился чувств без всякой видимой причины.
И потому, мой дорогой друг, я сосредоточу еще мои силы на изучении этики; я еще больше чувствую, что во времена, переживаемые теперь Россией, нельзя достичь серьезных результатов активностью отдельных личностей. Сотрясение масс велико, — индивидуальное масс недостаточно.
Я глубоко верю в будущее. Я внутренне убежден, что синдикалистское движение, т.-е. рабочих организаций, которые на своем последнем конгрессе собрали представителей от 20 000 000 рабочих, сыграет в течение каких-нибудь 50 лет громаднейшую роль в образовании коммунистического безначального общества…
Я также верю, что в организации коммунистических общин в крестьянстве, кооперативное движение — особенно русское крестьянское кооперативное движение— будет в последующие 50 лет служить творящим ядром коммунистической жизни, без какой-либо примеси религиозного характера.
Я глубоко верю в это. Но я чувствую, что для того, чтобы запечатлеть эти два движения с жизненною силою, чтобы дать им форму, развить их, приготовить твердый базис для них и помочь им трансформироваться из орудия самозащиты в могущественное средство, для реорганизации общества на принципах коммунизма, — требуется сила моложе моей — и особенно кооперация из среды рабочих и крестьянства. Эти силы будут найдены. Они уже есть в обоих движениях, хотя они еще не сознают своей миссии. Они еще не уяснили сами себе, что они еще не прониклись идеалом коммунизма»…
Петр Кропоткин не терял случая обращаться к рабочим Европы, чтобы они настойчиво просили мира с Россией. Он возмущался отношением известных старых «революционеров», наводняющих ныне Европу, которые присоединились к империалистическому кличу об интервенции. В то же время он критиковал, не колеблясь, политику советского правительства. Кропоткин несколько раз взывал к рабочим Европы, чтобы они заставили их правительства убрать от России руки прочь. Никто не выявлял лучше, чем он, что продолжение похода на Россию означает одновременно и полнейшее расстройство остального мира. Россия по многим причинам нуждается в мире, — говорил он, — и в той же мере голос свободной критики должен быть услышан, так как новая Россия может быть построена только доброю волею и соединенными усилиями всего народа.
Кропоткин умер и, однако, никогда еще не был так жив. Он живет в сердцах и мыслях России и всего мира. Он не нуждается в комментаторах своих работ. Он поставил себя в самое скромное положение духовного учителя и писал с простотою, доступною пониманию всех. Его отношение к людям было просто. Дух его живет. Он вибрирует в дыхании масс.
Эмма Гольдман.
Восстание на Кругобайкальской дороге 1866 года
«Полевой военный суд, учрежденным в Иркутске по делу о возмущении преступников на Кругобайкальской дороге», — корреспонденции П. А. Кропоткина.
Раздавленное и потопленное в море крови польское восстание 1863 года не вполне закончило польское движение шестидесятых годов. Революционные волны точно не могли еще успокоиться, и когда Сибирь наполнилась ссыльными повстанцами, дух мятежа еще хмелем бродил в их умах, и жажда свободы не могла совершенно исчезнуть из сердца.
И в результате — последняя конвульсия революционной вспышки, но уже на территории Сибири, среди каторжной обстановки, в условиях, которые могли признать благоприятными для нового восстания лишь воспламененные неугашаемым революционным дерзновением души, рвавшиеся к свету из мрака сибирского ада.
Попытка польского восстания на Кругобайкальской дороге в июне 1866 г. мало освещена в русской исторической литературе. Поэтому нельзя отказать в значительном интересе корреспонденциям, которые писал П. А. Кропоткин из Иркутска в газету «Биржевые Ведомости» в октябре 1866 года и которые представляют собою отчет о разборе дела о кругобайкальском восстании военно-полевым судом, или, вернее, комиссией, в Иркутске. Эти неизвестные исследователям корреспонденции П. А. Кропоткина мы извлекаем из «Биржевых Ведомостей» и воспроизводим ниже.
Отчет Кропоткина написан своеобразно, тяжелым для газеты слогом и без той определенности и ясности, какие были бы необходимы для полного уразумения всего кругобайкальского эпизода и судебной после него расправы. Быть может, здесь сыграли свою роль, «независящие обстоятельства», — не даром Кропоткин в своих «Записках революционера» отмечает, что его корреспонденции появились в печати «к великому неудовольствию генерал-губернатора» Восточной Сибири. Но, во всяком случае, принимая во внимание условия печати в то время, в особенности — сибирской, корреспонденции Кропоткина имеют свою историческую ценность, как достоверные показания о процессе со стороны самого достоверного свидетеля и беспристрастного наблюдателя.
В «Записках революционера» читаем: «О бунте стало известно за границей. Казни, жестокость двух офицеров, которая раскрылась на суде, вызвали сильное волнение в Австрии. Австрийское правительство заступилось за галичан, принимавших участие в революции 1863 года и сосланных тогда в Сибирь, и некоторые из них были тогда возвращены на родину. Вообще вскоре после мятежа 1866 года положение всех ссыльных поляков заметно улучшилось. И этим они были обязаны бунту, тем, которые взялись за оружие, и тем пяти мужественным людям, которые были расстреляны в Иркутске».
Это несомненно. Но верно и то, что русская печать, по мере возможности, помогла осветить эту революционную трагедию и дала материал для агитации на Западе. И без преувеличения позволительно думать, что корреспонденции П. А. Кропоткина не остались в этом отношении без влияния.
В пользу такого предположения достаточно сказать, что Кропоткиным был ярко и выпукло освещен один из самых возмутительных эпизодов усмирения восстания, связанный с действиями войскового старшины Лисовского и его отряда.
С другой стороны, корреспонденции Кропоткина дают интересную и верную картину старого дореформенного суда, в котором не было ни правды, ни милости. Если под давлением времени и в силу уже входивших в Европейской России в действие новых судебных уставов самый иркутский процесс протекал в условиях гласности, то во всем остальном это был настоящий крепостнический суд, в котором обвинительная власть обрушивалась на обвиняемых всею тяжестью своего привилегированного положения. Подсудимые не могли иметь защитников, не было настоящего судебного следствия, не было начала равенства сторон и устности процесса; письменные показания душили судебную правду. Чрезвычайно типично положение обвинителя в этом процессе, который, в поисках улик против подсудимых, не останавливался перед психологическими экскурсиями и не без лихости забирался в их души и читал там тайные планы, мысли и намерения, — и все это ставил им в вину, выдвигая свои фантазии, как явную улику.
Отчету П. А. Кропоткина мы предпосылаем фактическую справку о восстании поляков, написанную Л. О-ым, и ради лучшего уяснения читателями некоторых подробностей дела, приводим некоторые дополнительные данные к кругобайкальской трагедии.
В процессе часто фигурирует имя Котковского, относительно которого прокурор заявил на суде, что это, — «как сообщил недавно шеф жандармов, тот самый, который был жандармом-вешателем в Варшаве, отрезавший ухо г. Фелькнеру и избежавший смертной казни потому, что это открылось после его осуждения».
В статье «Восстание поляков на Кругобайкальской дороге» («Ист. В.», III, 1883) Н. Берг, повидимому, пользовавшийся официальным материалом, рассказывает о Котковском, что он, действительно, входил в группу террористов, действовавших по приказанию революционной польской организации — Центрального Комитета народного правительства.
Осенью 1862 года в Варшаву начальником тайной полиции был назначен бывший инспектор школ Фелькнер, которого вскоре (в октябре) было предписано — «убрать». Группа революционеров, в том числе «таможенный апликант» Котковский, привела приказ в исполнение, при чем главная роль в этом деле принадлежала именно Котковскому. Он нанес три смертельных удара кинжалом в грудь Фелькнеру и убежал вместе со своими товарищами. Но по дороге он вспомнил, что оставил у ворот дома, где произошло убийство, свою бурку, и что он, кроме того, забыл захватить с собой для представления народным властям corpus delicti — «ухо правительственного шпиона». Бесстрашный, он, несмотря на то, что у дома стояла уже толпа народа, смело подошел к месту происшествия, поднял свою бурку и при всех отрезал ухо у убитого Фелькнера, а затем спокойно удалился… Котковский затем участвовал и в убийстве Анны Висневской, сожительницы одного из его сотоварищей, грозившей в связи с делом Фелькнера выдать их властям.
Котковскому естественно пришлось спасаться. С новым бесстрашием он пошел в рекруты по конскрипции Велепольского в конце 1862 года и в качестве солдата служил в Петербурге, а затем был переведен в Харьков. На военной службе он быстро делал карьеру: как исправный, честный, исполнительный и хорошо грамотный солдат, он заслужил всеобщее доверие.
Уже по окончании восстания, в 1865 году, вследствие продолжавшихся арестов, тайна убийства Фелькнера и Висневской была обнаружена, и варшавские власти стали искать Котковского, который в это время был уже писарем в харьковском гарнизонном штабе. Несмотря на самый лестный отзыв штаба о Котковском, который был к тому моменту представлен даже к офицерскому чину, его арестовали и судили. Это был послереволюционный период, когда, по предписанию из Петербурга, в Варшаве никого уже не казнили, и Котковский поэтому был приговорен к вечным каторжным работам.
Таким образом, если Кропоткин не ошибся в изложении слов прокурора, то ошибся последний, так как Котковский и был именно осужден за участие в убийстве двух лиц…
Что касается приговора кругобайкальским повстанцам, то Кропоткин в своих «Записках» сообщает: «Генерал-губернатор телеграфировал в Петербург и просил разрешения смягчить приговор, но ответа не последовало. Он обещал нам не приводить в исполнение смертного приговора, но, прождав несколько дней и не получив ответа из Петербурга, приказал совершить казнь секретно, рано утром. Ответ из Петербурга прибыл почтой, через месяц! Генерал-губернатору предоставлялось „поступить по собственному благоусмотрению“»…
Ред.
…………………
I.
Кругобайкальское восстание.
1.
Общее восстание поляков-каторжан, размещенных по сибирским каторжным заводам, было задумано в начале 1865 года в иркутской тюрьме, когда в ней сосредоточились большие партии поляков из Царства Польского, осужденных за события 1863 года. Идея этого восстания пропагандировалась среди повстанцев группою каторжан — Шарамовичем, Целинским, Рейнером, Котковским, Арцимовичем, Ильяшевичем и Вронским, которые впоследствии, при попытке восстания и явились главными его руководителями, при чем наибольшую деятельность, по свидетельству их современников, проявили, главным образом первые четыре революционера. Ведя агитацию среди своих товарищей-каторжан, они сносились со всеми каторжными заводами Сибири, где только были заключены поляки за движение 1863 года. Подготовляя восстание, они входили в сношения по поводу этого выступления далее с маленькими местечками, например, с Сиваковым, за Читой, где было всего несколько поляков-каторжан, работавших на постройке барж.
Весь 1865 год и начало 1866 года ушли у них на сношения с товарищами, заключенными в других тюрьмах и организацию задуманного восстания.
Целью заговора было освобождение всех осужденных правительством на вечное поселение и каторгу поляков. Осуществить эту задачу предполагалось таким образом: в назначенный день во всех каторжных заводах Сибири, поляки должны были напасть на окарауливавшую их стражу, отобрать у нее оружие и, вооружившись и захватив в каторжных заводах съестные припасы, направиться, забирая по пути товарищей с поселений, через тайгу и забайкальские хребты в Монголию, а пройдя Монголию, выйти к морю, захватить на нем вооруженною силою суда и на них переправиться в свободную, независимую Америку.
Таков был вкратце план восстания, задуманный повстанцами Шарамовичем, Целинским, Рейнером и Котковским.
В начале 1866 года, скопившуюся в Иркутске партию каторжан-повстанцев, начали группами отправлять на Усольские солеваренные и Александровский винокуренный заводы и на прокладку нового Кругобайкальского тракта. Находившиеся в это время в иркутской тюрьме[22] повстанцы все были посвящены в тайну подготовлявшегося восстания. Часть из них, состоявшая, главным образом, из дворян, графов и князей, не сочувствовала этой затее и не принимала никакого участия не только в ее подготовке или пособничестве заговорщикам, но даже не участвовала в совещаниях по этому вопросу, считая как цель, так и средства этой затеи неосуществимыми, несбыточными мечтами. Однако, эта группа повстанцев не предпринимала ничего такого, что могло бы помешать осуществлению задуманного восстания. Более же демократические элементы, революционно и враждебно настроенные против русского правительства, принимали все решения заговорщической группы всей душой и горячо откликались на все начинания их всем своим молодым пылом (большинство составляло молодежь в возрасте от 17 до 35 лет).
Поэтому повстанцы из аристократов, не желавшие принимать участие в готовившемся восстании, употребляли все меры, чтобы отмежеваться от заговорщиков и не попасть с ними в отправлявшиеся по каторжным заводам и на работы партии, а, сгруппировавшись отдельно, пойти в Усольский солеваренный каторжный завод, где уже находились тоже повстанцы из бывших привилегированных лиц. Они, действительно, и попали все на Усольский завод, а самая большая партия повстанцев, принимавшая участие в заговоре, решила записаться на работы по прокладке нового кругобайкальского тракта и пойти туда. Третья партия, состоявшая из сочувствующих плану восстания, пошла в Александровский винокуренный каторжный завод.
Общий режим на каторжных заводах для каторжан тогда был суровый, с обязательными работами. Режим этот особенно усилился с прибытием из Иркутска большой партии каторжан-повстанцев. Начальник конвойной команды полковник Клейн и помощник его поручик Вессельрот-фон-Керн, специально прикомандированный к конвою для политических польских преступников, принимал все меры, чтобы стеснять жизнь повстанцев. Он ограничивал их в пище и переписке и тем самым лишал их возможности продолжать организацию восстания и отчасти способствовал тому, что оно вспыхнуло внезапно и не было поддержано теми повстанцами из других тюрем, которые выразили раньше согласие принять в нем участие.
Восстание поляков на новом кругобайкальском тракту началось совершенно неожиданно для всех, как для администрации, так и для населения; поэтому, когда 26 июня, в 10 часов утра, прибыл в Иркутск нарочный к губернскому воинскому начальнику с рапортом прапорщика Важеева о начавшемся восстании, и, когда от него по Иркутску распространились слухи об этом чрезвычайном возмущении поляков, то весь город сильно встревожился. Население его начало толпами высыпать на улицы и вести разговоры об этом сенсационном известии, а слухи все росли и увеличивались, и уже через час-два передавалось по городу, что находящиеся в разных местах Сибири на поселении и в каторжных заводах поляки перебили все начальство и, вооружившись ружьями и пушками, идут на Иркутск, Читу и другие крупные города Сибири, чтобы захватить их в свои руки… и что усмирить их уже нет никакой возможности!.. Слухи эти, ежечасно увеличивавшиеся и росшие, как снежный ком, распространились среди иркутского и окружного населения и вызвали страшную панику.
В два часа пополудни из Иркутска отправился за Байкал отряд из восьмидесяти нижних чинов и двух офицеров под начальством командира батальона майора Рика. До Лиственичного они были довезены на почтовых, а через озеро Байкал в Посольск доставлены на пароходе Хаминова, предоставленном им в распоряжение военного начальства ввиду необычайных событий.
Двадцать седьмого июня, ночью, в два часа, к начальнику военного штаба прибыли два ямщика, бежавшие из плена от поляков и пробравшиеся со станции Выдриной на лодке через Байкал, и сообщили, что человек двести вооруженных поляков-каторжан прибыли на эту станцию, конвоируя арестованного ими полковника-инженера Черняева, заведывавшего техническими работами по прокладке тракта.
Это новое известие не замедлило вызвать всевозможнейшие слухи. Двадцать седьмого июня из Иркутска отправился, под начальством войскового старшины Лисовского, отряд в двести конных казаков на станцию Култук, где его ожидал исправник Павлищев с собранными им вооруженными бурятами, а за Байкал, в Посольск, в помощь Рику, были отправлены еще два отряда в четыреста человек под начальством поручика Лаврентьева и штаб-ротмистра Ларионова. Для сопровождения второго отряда командирован был адъютант начальника военного штаба поручик Порохов, которому и было предписано проводить отряд до соединения с Риком и доставить подробнейшие сведения о положении дел.
Иркутяне и окружное население, видя, что начальство спешно отправляет на место восстания отряд за отрядом, находили в этом подтверждение ходивших тогда тревожных слухов.
Проходили дни. Официальных известий о ходе восстания не было: получаемые же частным путем до невероятности извращали картину совершавшихся событий. Все это сильно всех нервировало…
Ссыльных поляков в Сибири в то время было больше двадцати тысяч человек.
Начальством были призваны на службу казачьи сотни, которые и были разосланы по уездным городам и окружным селам и деревням; по городу Иркутску усилены были караулы и ночные и дневные разъезды. Словом, были приняты все меры предосторожности на случай нападения восставших поляков.
Дело же в общих чертах происходило следующим образом. Правительство сооружало кругобайкальский тракт и для этих работ было назначено более двух с половиною тысяч политических преступников из поляков. Работы производились на протяжении более двухсот верст от Култука до станции Лихановской, под руководством военного инженера Черняева и подполковника Шаца. Повстанцы-каторжане были распределены партиями от полутораста до трехсот человек. Конвойной команды всего было до 150 человек на всех каторжан.
В ночь на 25 июня поляки-повстанцы, находившиеся на прокладке тракта в двенадцати верстах от Култука, в числе 250 человек, перевязали конвойных, отняли у них оружие и, захватив казенных и бурятских лошадей (буряты в то время работали также на прокладке тракта), отправились на станцию Амурскую, где перевязали ямщиков, забрали всех почтовых лошадей с повозками, оружие, какое было, и направились на станцию Мурино, предварительно испортив телеграфное сообщение с Иркутском. Ночью на 27 июня поляки-повстанцы пришли на станцию Лихановскую, в 25-ти верстах от Посольска. Здесь между ними и конвоем этой станции завязалась перестрелка, при чем конвой, во главе с поручиком фон-Керном забаррикадировавшись в станционном доме, начал отстреливаться через окна. Неизвестно, чем бы кончилась эта перестрелка, если бы не подошел на помощь конвою отряд майора Рика, завидя который поляки-повстанцы облили керосином здание станции и подожгли его, а сами поспешно начали отступать в тайгу. Поручик Весельрот-фон-Керн едва-едва мог спастись из охваченного пламенем здания. Этим пожаром уничтожена была станция и две тысячи пудов хлеба, привезенного казною для продовольствия каторжан. Здание горевшей Лихановской станции красным заревом далеко освещало окрестности в темноте ночи. Громкие выстрелы и пальба пачками из винтовок далеко разносились по Байкалу и тайге, доносились до Посольска и будоражили жителей, которые в паническом страхе выбегали толпами из селения со своим скарбом; часть из них убежала в лес, а часть направилась в Лиственичное на лодках.
Майор Рик со своим отрядом гнался за поляками-повстанцами до станции Мысовой, где и получил сведения, что полковник Черняев, подполковник Шац, эсаул Прошутинский и сотник Попов захвачены восставшими поляками на станции Мишихе и арестованы.
На этой станции отряд повстанцев действовал под руководством Шарамовича, захватившего всех вышеперечисленных лиц в плен. Между прочим, рассказывали, что полковник Черняев, арестованный повстанцами, задал им вопрос:
— Вы захватили пароходы на Байкале?
— Нет, — отвечали ему.
— Тогда ваше восстание не удастся; вы сделали громадный промах: через день-два здесь будут войска и вас подавят…
Двадцать восьмого июня, подходя к станции Мишихе, майор Рик с отрядом штаб-ротмистра Лаврентьева и поручика Порохова встретил у моста при речке Быстрой многочисленный конный отряд поляков-повстанцев: после непродолжительной перестрелки противники вступили в рукопашный бой. Бой был ожесточенный. В нем проколотый пиками пал поручик Порохов, три солдата и крестьянин Чулков.
После рукопашной схватки конный отряд повстанцев ускакал в тайгу и скрылся в ней.
В последующие дни в разных местах правительственные войска имели рукопашные стычки, схватки и перестрелки с отрядами восставших поляков. Перевес, конечно, оказался на стороне правительственных войск. Каторжан-повстанцев брали в плен и отправляли в Иркутск. Некоторые же отряды восставших ушли в леса прибайкальских гор.
Всего участников восстания было до тысячи пятисот человек. Они, разбившись на четыре главных отряда под руководством Шарамовича, Рейнера, Целинского и Котковского и на несколько мелких отрядов, вели партизанскую борьбу с населением и войсками, выступившими для усмирения их.
В июле в Иркутск были доставлены первые партии поляков, снятых с работ по постройке тракта, не принявших участия в восстании и плененных в тайге. Когда они проходили улицы города, их встречали громадные толпы народа и провожали до тюрьмы. Повстанцы шли медленно, тяжело ступая; ободранные и истощенные и, кроме глубокого сожаления, ничего не могли возбудить. Одни только уличные мальчишки, да озорники-взрослые позволяли себе кричать им:
— Вот они, мятежники и бунтовщики…
— Молчите, не ваше дело, — останавливали их.
— Что, панове, захотелось побушевать? — спрашивали некоторые со злой насмешкой.
— Что ж, вам хорошо, — как бы оправдываясь, отвечали повстанцы, — вы свободны, сыты, одеты, со своими семьями, а мы — каторжане, невольники, вдали от родины, семьи… А как мы жили, если б вы знали… Работа у нас на тракту была каторжная, приходилось ломать каменные глыбы в жару, ворочать и рубить пни, рыть землю тяжелой кайлой и лопатами; и при такой работе кормили нас только омулями, иногда протухлыми; хлеба часто по несколько дней корки не видали, жили в глухой тайге и варились в своем соку, без живых людей, и переписываться нам не давали. Что же было нам делать?..
И каждый день шли партии усмиренных повстанцев, захваченных в лесах, а потом их начали везти на баржах из-за Байкала. Все они, даже раненые, были в кандалах и наручниках. Раненых переносили с баржей на носилках. Картина была ужасная и тяжелая… Помещены они были в казармах на Преображенской улице и в больнице при остроге.
9 июля в вышедшем № 27 «Епархиальных Ведомостей» появилась краткая заметка о происшедших событиях, и номер газеты разбирался нарасхват. Всем хотелось узнать подробности о восстании поляков. После этого тоже очень краткое описание последних событий появилось в «Сибирском Вестнике», а 16 июля была перепечатана эта заметка и в «Губернских Ведомостях» в № 29 с добавлением, что в иркутскую тюрьму доставлено 485 поляков — убитых, раненых и больных.
За разбежавшимися в лесах повстанцами были посланы казачьи и воинские отряды.
Поляки же в тайге, блуждая, голодали, питаясь только ягодами, травой и корой, но все-таки, истощенные, погибали или с голоду и утомления, или в стычках и боях с войсками.
Официальный отчет об операциях правительственных войск, ничего нового не привносящий в вышеизложенное описание хода восстания, помещен в приказе по войскам сухопутным и морским восточносибирского военного округа, изданном в Иркутске 26 сентября 1866 года за № 315.
2.
Следствие по делу о восстании военные власти вели быстрым темпом. И в начале октября уже вручили арестованным по этому делу обвинительные акты, а с 24 октября открылся над ними военно-полевой суд (военно-полевая комиссия), длившийся 15 дней беспрерывно. На суд были доставлены все участники восстания.
Главными руководителями вооруженного восстания на новом кругобайкальском тракту были судом признаны: Целинский, Шарамович, Рейнер, Котковский, Арцимович, Ильяшевич и Вронский и приговорены к смертной казни через публичное расстреляние; 160 человек из каторжан, принимавших в восстании участие, получили прибавку срока каторжных работ еще на двенадцать лет; восьмидесяти человекам прибавлено по 8 лет каждому, 68 — по пяти лет, а остальные обвиняемые свыше двухсот человек пошли на поселение в разные отдаленные и захолустные места Сибири.
Командующий войсками, генерал губернатор Восточной Сибири, на усмотрение которого был представлен судом приговор для конфирмации, утвердил смертный приговор Целинскому, Шарамовичу, Рейнеру, Котковскому и Ильяшевичу.
Пятнадцатого ноября утром за Якутской заставой, возле находящихся в настоящее время пороховых погребов, на месте, где сейчас стоит шестой телеграфный столб, если считать от заставы, приведен в исполнение смертный приговор суда над Шарамовичем, Целинским, Рейнером и Котковским.
На месте казни было вкопано в недалеком расстоянии друг от друга четыре столба, а около них — ямы.
Место это было окружено войсками, на казнь пришла многотысячная толпа народа, по улицам Иркутска происходило громаднейшее движение пешеходов и экипажей; все ждали со страхом и любопытством, скоро ли поведут обреченных на смерть повстанцев…
И вот народ заволновался. Вдали показалась черная колесница, а в ней стояли осужденные. Эту колесницу толпа встретила гробовым молчанием и пошла вслед за нею. По прибытии на место, где должно было совершиться ужасное дело, приговоренные спокойно сошли с колесницы; навстречу им вышел ксендз иркутского костела Шверницкий для последнего напутствия. Он когда-то сам был ссыльным по заговору Канарского. Очевидно, поэтому он с особенно тяжелым и, видимо, гнетущим его чувством, приступил к исполнению неизбежной миссии — отпущения в загробный мир своих товарищей. Лицо его было бледно, руки дрожали и в глазах его блестели слезы. Он подошел к первому Шарамовичу, который, видя его нервное состояние, тихо сказал ему:
— Отче, вместо того, чтобы нас подкрепить Божьим словом и придать нам мужества в последние минуты, ты сам упал духом и требуешь поддержания; рука твоя, которая должна благословить нас к отходу в жизнь вечную, не тверда. Успокойся и молись не за нас, а за будущее Польши. Нам все равно, где бы мы ни погибли за свое отечество: у себя ли дома или в изгнании; мысль наша, бывшая путеводной звездой нам всегда, не умрет и после нас; это нас подкрепляет и утешает.
Сказав это, Шарамович обнялся с остальными товарищами, стоявшими неподалеку, принял благословение от трепещущего ксендза и направился к одному из врытых в землю столбов.
Палач надел на него саван, Шарамович перед этим, сняв с головы шапку, бросил ее вверх и крикнул: «Еще польска нэ сгинэла»…
Все приговоренные были привязаны к столбам. Среди них выделялся самый молодой — Котковский, плакавший навзрыд.
Раздался залп…
Толпа вздрогнула; послышались крики и истерический плач.
Трое казненных сразу же склонили головы на грудь, а Шарамович начал биться в предсмертной агонии. Он был тяжело ранен, но не убит. Тогда раздались еще ружейные выстрелы, почти в упор в него, и кто-то из солдат ткнул в него пикой.
Все было кончено. Одни только барабаны продолжали греметь. Толпа начала расходиться. Слышались в толпе разговоры о присутствии духа Шарамовича, сожалели о убеленном сединами Целинском и о юноше Котковском.
В городе весь день только и было разговора, что о совершенной ужасной казни.
Л. О.
II.
Полевой военный суд, учрежденный в Иркутске по делу о возмущении преступников на Кругобайкальской дороге.
Корреспонденции «Биржевых Ведомостей».
1.
Иркутск, 28 октября 1866 года.
24 октября нынешнего года происходило 1-е заседание полевого военного суда по делу о беспорядках, случившихся летом на Кругобайкальской дороге, и о которых писали столько (правды и вздора) в русских газетах. Желавших попасть на это заседание было чрезвычайно много, но едва нашли в Иркутске залу в казармах, где бы могло поместиться достаточно публики. Билетов на вход на это заседание было разослано 180 и, повидимому, все владельцы билетов явились. Известно, как мы падки на новинки. Но непривычная к долгому сиденью и вниманию публика (я выключаю карты) скоро, повидимому, соскучилась. С 3-го часа (заседание началось в 9½ ч. утра) начинается хождение взад и вперед. Скучающие, но по какому-то ложному стыду, а, может быть, и просто — любопытству, нежелающие уйти, слушатели, — виноват, зрители, — начинают расхаживать взад и вперед, то выдвинутся вперед, то опять уйдут, заглянут в лицо подсудимого и опять отойдут прогуляться и т. д. А люди-то наполовину военные — сабли, шпоры начинают шуметь в задних рядах, — и советы брать пример с солдат нового пришедшего сюда батальона, ловко и без малейшего шума переходящих с места на место, и то только тогда, когда это нужно, — ни к чему не ведут.
Легко поэтому представить себе, каково записывать при этом шуме, что происходит в заседании суда; о некоторых частях я имею таким образом лишь самые отрывочные сведения. Вообще не скажу, что я вел стенографический отчет, а потому заранее извиняюсь в неполноте моего отчета.
Заседание суда началось с чтения приказа генерал-губернатора Восточной Сибири об учреждении полевой военно-судной комиссии, состоявшей из 6 членов, под председательством начальника артиллерии Восточной Сибири Г. М. Сафьяно.
Затем было приступлено к чтению извлечения из дела, составленного назначенным прокурором при суде г. Милютиным.
В лето нынешнего года были выведены на работы по Кругобайкальской дороге политические преступники из поляков. Расположение их было следующее: они были разделены на 2 отделения: култукское и мишихинское. 1 култукская партия в 12 вер. от Култука состояла из 48 чел. при 5 конв.; 2–47 чел., 6 конв. в 28 вер.; 3–43 чел. при 7 конв., в 50 вер. от Култука. В 9 вер. от Култука находились буряты, собранные здесь для работ. В 57 вер. от Култука, на ст. Муриной, находилось 102 чел. привилегир. при 14 конв.; в Мишихе было 3 партии: 1-я — в 11 в., не доходя до Мишихи, 2-я — в 9 вер. и 3-я — в 6 вер. за Мишихой, всех их было тут 335 чел.; последняя состояла исключительно из привилегированных. В 128 в. от Култука на Мантурихе было 106 чел. при 9 конв. и в 112 вер. от Култука на Лихановой было 41 челов. привилегиров. при 6 конв. Всего было 720 чел. при 123 конв., из которых, за исключением бывших на хозяйственных занятиях, находилось на действительной службе 80 челов.
Все они, выйдя на дорогу, должны были приняться за постройку балаганов; но замечено было, что балаганы строились очень неудовлетворительно, от работ все уклонялись, особенно привилегированные; затем прокурор изложил, какие когда были получены донесения и какие меры приняты, так как все это уже было напечатано, то я опускаю эти подробности. Сигнал к движению подала 1 култукская партия; в ночь с 24 на 25 июня поляки, предводительствуемые Арцимовичем. который назвал себя Квятковским, бросились на конвой, обезоружили его, взяли бурятских лошадей, пасшихся на p. Похабихе и пошли к ст. Муравьева-Амурского. По дороге присоединилась 2 партия. 26 июня в Муриной арестован прапорщик Лаврентьев, затем начальство над восстанием принял на себя Шарамович. С этих пор начинаются раздоры; большая часть политических преступников, бывших на дороге, не присоединилась к восставшим, многие отстали от партии. Из Муриной Шарамович послал передовой отряд под начальством Ильяшевича и Вронского, сам же должен был следовать за ним. Передовой отряд испортил в Снежной телеграфную проволоку и аппарат, арестовал ехавшего по дороге полковника Черняева[23]. Далее они заставили присоединиться к себе 84 чел. политических преступников, и 26-го в 12 ч. передовой отряд был на Мишихе. Тут же арестованы инженер, полковник Шац[24], архитектор Дружинин и телеграфист Трапезников. Тогда Ильяшевич направился к дворянской партии, расположенной за Мишихой, и 27 июня дошел до ст. Лихановой, откуда послал отряд на Сухой Ручей. На Лихановой несколько рядовых и подоспевший потом пор. Керн, как известно, отстреливались по мятежникам из станц. дома, который был подожжен при приближении майора Рика. Тогда передовой отряд отступил к Мишихе, где приступлено было к окончательному формированию шайки.
Во весь день 28 июня Целинский принимал деятельное участие в формировании отряда.
Когда отряд был сформирован, провиант положен на вьюки, и Шарамович двинулся в поход к Посольску. На р. Быстрой, в 12 вер. от Мишихи, он встретился с майором Риком, который шел с 80 человеками.
Во время похода г. Рика из Посольска ему сдалась дворянская партия.
Встретясь возле Быстрой с партией Шарамовича, г. Рик начал перестрелку, продолжавшуюся около часа, после чего партия отступила и разбежалась в горы; Котковский с 70 чел. перешел назад р. Мишиху и ушел в горы, между Выдриной и Снежной, перейдя за гольцы по Игумновской дороге. Другие тревожили наши отряды; большая часть разбежавшихся поляков схвачена казаками 1-й конной бригады, но все-таки только 20 июля схвачены главные начальники. Из бывших на работах 721 чел. привезено в Иркутск 688; 29 убиты и пропали без вести (2 бежали ранее и 2 умерли раньше).
Таким образом мятеж усмирен воинскою силою, и главные участники взяты с боя, говорит г. Милютин. Усмирение стоило 1 офицера, 1 у.-оф., 1 казака и 1 крестьянина; злодейски умерщвлены 2 вожака. Из политических преступников убито 22 и 2 ранено. Убытки, понесенные казною, значительны. Только часть издержек исчислена в 39 000 р., из коих 24 000 из казны[25].
В мятеже принимали участие некоторые беглые из нерчинских заводов, жившие возле Култука или скитавшиеся в Прибайкальских горах.
Затем прокурор приступил к изложению того, что открыто следствием. Следствие продолжалось более 2 месяцев, опрошено до 1000 человек, и из всех этих показаний можно составить себе довольно ясное понятие об этом деле. Прокурор прочитывал в своем обвинении огромное количество этих показаний, из которых очень хорошо обрисовывается значение отдельных предводителей мятежа и их личности. Я буду излагать только главные.
Показания конвойных и ямщиков из бурят говорят, что в первой култукской партии, где началось движение, все поднялись единодушно, перевязали конвойных, из которых двое были на часах и ничего не видели, другие же 4 сидели в балагане и, повидимому, играли в карты.
Забравши сухари, кое-какое оружие, запасенное прежде и отобранное от конвойных, все двинулись к следующим станциям по тракту, — Муравьева-Амурского и Утуликской, где, обыскавши станционные дома, забрали припасы, одежду, кормили лошадей хлебом, при чем распоряжавшийся партией Квятковский побил ямщичьего старосту, и тронулись дальше на двух телегах и на 7 верховых лошадях, остальные же пешком. На дороге к ним присоединились готовые уже партии, которые перевязали конвойных и шли вперед по дороге, забирая с собою конвойных и ямщиков. С ними обращались хорошо, кормили, но обменивались одеждою.
В Муриной во главе восстания является Шарамович (низкий, довольно толстый, с черною бородою, по описаниям свидетелей). Здесь также стояла партия, в которой связали конвойных, обменялись одеждою и заставили казаков рубить телеграфные столбы, после чего забрали всех лошадей, грозя убить ямщиков, если они не укажут, где лошади.
На этой же станции случилось следующее. Один из поляков, пробуя ружье, выстрелил нечаянно, за это атаман ударил его палочкой, говоря, что нельзя по-пусту тратить порох и свинец, так как они нужны.
Тут же был деревянный ящик, чтобы собирать на что-то деньги. Полагают, что в нем было рублей 10; по уходе поляков этот ящик оказался взломанным.
Из Мурина Шарамович послал передовой отряд под начальством Ильяшевича и Вронского. На Снежной, следующей станции от Мурина, — продолжал прокурор, — мы имеем очевидцами восстания телеграфиста, рабочих и перевозчиков. Они рассказывают о приходе на рассвете передового отряда, который ворвался в один дом, обшарил все, забрал 1 фунт пороха, дробовик, пистоны, на станции же сломал телеграфный аппарат и удалился. В 11 часов пришел Шарамович, обедал здесь, держал себя тихо, жалел, что передовой отряд буйствовал, приказал перерубить канат на перевозе и потопить карабаз. С ним было около 100 человек поляков, которые оттачивали здесь шашки. Они забрали 3 ружья, 2 повозки и пошли далее. Ямщики, из которых один водил поляков до Мишихи, показывают то же.
Шодин, мещанин, шедший с Снежной по дороге, был принят поляками за лазутчика; они хотели убить его, но, заметя ошибку, снабдили хлебом, сахаром и отпустили.
Между Снежной и Выдриной передовой отряд арестовал полковника Черняева. Об аресте все показания сходны, за исключением показания одного, который уличал Вронского в том, что он будто бы целился из карабина в полковника Черняева.
Полковник Черняев показал, что 20 июня, в 5 ч. утра, он был встречен поляками, около 20 человек, под начальством Вронского, ехавшего с карабином. Они объявили ему о возмущении. На приказание г. Черняева сложить оружие, они отвечали, что не могут, получивши приказание из Иркутска, откуда пришло до 80 человек, готовых к восстанию; в Иркутске же, говорил Вронский, все власти уже арестованы. На спрос об участи конвойных и ямщиков сказали, что все целы и будут целы. При полковнике Черняеве оставили двух часовых и пошли с ним в Выдрину. В разговоре с главным начальником партии, г. Черняев стал доказывать ему безрассудность предприятия; он отвечал ему: «Разве можно таких молодых, как мы, спокойно запереть в глушь? Поверьте, лучше пули, чем такая ссылка».
Все доехали в Выдрину; там партия уже собиралась в дорогу и г. Черняеву предложили ехать с ними дальше, в Переемную. По дороге садились иногда в повозку к г. Черняеву Ильяшевич и Вронский и вступали в разговоры. Г. Черняев упрекнул их в том, что после такой амнистии[26] они решились на такой противозаконный поступок. — «Не такой мы ждали амнистии, — отвечали они, — нас переводят на поселение, но этот переход хуже каторги. Здесь нас кормят, одевают, там же мы должны умирать с голода от недостатка пищи и одежды, там предстоит каждому лишь мученье. Нет, мы лучше сами возьмем свободу, лучше пуля, чем такое житье». — Г. Черняев заметил тогда, что они не выйдут за границу; тогда ему рассказали, что значит личная энергия и привели в пример побег поляков из Камчатки. В Переемной г. Черняеву повторили, что он свободен и может ехать, но не давали лошадей; Ильяшевич же дал ему расписку на свободный пропуск. У него спросили казенных денег; г. Черняев ответил, что таковых нет у него, что очень удивило поляков; впрочем, он отдал им 100 рублей, говоря, что остальные его собственные; тогда в этих 100 р. ему дали расписку за подписью начальника авангарда сибирского легиона.
Наконец, Ильяшевич был готов и сказал г. Черняеву, что не может оставить его здесь, опасаясь неприятностей; дать же лошадей на обратный проезд не может, так как они необходимы для дальнейшего следования партии. Г. Черняеву предложили ехать с партией далее и положили в его повозку хлеб. Когда подъехали к 1-му стану политических преступников, то увидели, что конвой обезоружен, а партия собирается в поход, забирая с собою вещи, несмотря на строго повторенные приказания начальника брать с собою лишь по одной паре белья и по одной ковриге хлеба. Все они торопливо вооружались чем попало. Так как под г. Черняевым приставали лошади, то Вронский уехал вперед, обещая прислать навстречу свежих лошадей.
Показания Михайлова повторяют почти то же, с тою прибавкою, что он послал двух ямщиков в Иркутск, чтобы дать знать о восстании и посоветовал послать рыбаков. Он видел главный отряд Шарамовича, который просил лошадей и не велел своим трогать водку в Мишихе.
На Мишинской станции должен был быть есаул Прашутинский, женщины и ямщики, но г. Прашутинского не было дома, когда пришли поляки; он ездил выбирать место, куда хотели передвинуть партию. Когда он вернулся, его окружили. Ильяшевич просил позволения обыскать его комнату, — нет ли оружия и казенных денег, но комната уже ранее была обыскана. Женщины, бывшие на станции, было заперлись, но поляки влезли в окна и искали оружия.
Опуская показания, которые не прибавляют никаких сведений, перехожу снова к показанию полковника Черняева. Около 9 ч. вечера он дошел до Мишихи, так как кони пристали, и он должен был итти пешком. В Мишихе, где был склад разных припасов для политических преступников, г. Черняев встретился с полковником Шацом и архитектором Дружининым, уже арестованными передовым отрядом вблизи Мишихи. Поляки уже хозяйничали припасами, они забирали наиболее нужную провизию и одежду и отправились утром 27 июня, оставя только лазарет и прося полковника не трогать больных, не мстить им за арест. Оставшемуся при лазарете медику Чикановскому была оставлена записка за подписом Целинского, гласившая, что г.г. Черняев и Шац свободны.
Вечером 27 июня прибыл Шарамович с вооруженною партией среди которой многие были вовсе без оружия. Шарамович вежливо спросил казенных денег, и г. Шац отдал ему 104 р., в чем и получил расписку за подписью начальника сибирского легиона вольных поляков. В сумерки явился Целинский и заговорил с полк. Черняевым о мятеже, называя его безрассудным делом, в котором он лишь по необходимости принимает участие. Уйдя к Шарамовичу, он через несколько времени вернулся к полковнику, гулявшему в это время перед станцией. Целинский говорил, что Шарамович упрямый фантазер, настаивает на своем, между тем как теперь мятеж потерян. Черняев спросил, что же заставляет его итти? «Приказание, я кавказский офицер, — говорит Целинский, они предполагают во мне знание военного дела и желают, чтобы я начальствовал. Мне же теперь нет расчета итти в битву после милости, дарованной нам императором. Мне осталось пробыть в работах всего один год, у меня жена, семья[27]. Восстание — старое дело; его проектировал один сумасшедший старик, который говорил мне об этом на пути из Канска в Красноярск. Это лицо убеждало меня стать во главе заговора. После амнистии мнения разделились, так как многим остались небольшие сроки каторги». Кончая, он просил Черняева засвидетельствовать об этом перед русскими властями[28].
Вечером был привезен раненый неизвестно откуда[29], после же пришли пешие бунтовщики из Мурина.
Тут сделалось ясным, что передовой отряд не выполнил своего назначения; мишихинские поляки (привилегированные) отказались итти; это не дало возможности передовому отряду в тот же вечер двинуться в Посольское, а утром, 27-го, отряд вышел слишком поздно, и в Лихановой наткнулся на майора Рика. Несмотря на увещания Ильяшевича, который ездил в дворянскую партию и пробыл там 3 часа, она не тронулась, и только отдельные личности присоединились к передовому отряду. Между тем Ильяшевич, не оправившийся после болезни, чрезвычайно утомился.
28-го утром собрались в почтовом дворе все пришедшие из Мурина. Шарамович сделал распределение людей, отобрал стрелков, конных и раздал орудие, при чем часть партии оставалась без оружия, часть же только с топорами. Наконец, все стали переправляться через Мишиху, провиант сложен на лодку и должен был итти по Байкалу, держась возле берега. Г. Черняев остался с Шарамовичем вдвоем и убеждал его сложить оружие. Шарамович, заспорив, высказывал надежду на успех, говорил, что, наконец, выйдет за границу и отдастся под покровительство Китая, или же пусть пуля покончит с жизнью.
Доводы г. Черняева все-таки не убеждали его.
— Что же до пули, про которую вы говорите, — сказал г. Черняев, — то предоставьте ее закону, но не увлекайте людей насильно.
— Я никого не беру насильно; вам, верно, говорил Целинский, — возразил Шарамович.
Когда все было готово, Шарамович переехал Мишиху последним. При нем был сигналист.
Показания полк. Шаца не прибавляют ничего нового, кроме того, что Вронский просил у него карты Вост. Сибири и высказывал что Шарамович намерен итти на Петровский завод и Сиваково[30], освободить своих и итти за границу.
Из показаний архит. Дружинина, которое г. прокурор читал вполне, извлеку только то, что Вронский дал ему и есаулу Прашутинскому слово, что они будут живы. Отправляясь дальше, Ильяшевич предлагал им ехать в Посольское, за исключением есаула Прашутинского, которым, говорил он, недовольны как конвойные, так и преступники. Еще прибавлю, что в разговоре Шарамович говорил ему, что у них разногласие: на 60 человек подействовал высочайший манифест и они не хотят принять участия; наконец, г. Дружинин упоминает еще про жандарма-вешателя, с полотенцем на одном плече, с тонкою, но прочной бечевкой на другом; про него говорили, что он вешает по усовершенствованной методе, не на дереве, а на плече. У г. Шаца был на Мишихе материальный Багринский, пронырливый еврей, который по исчислении понесенных убытков (по общему отзыву преувеличенных) очень изысканными выражениями описывает приход поляков, — как они брали из магазинов припасы, порох, лошадей, делили здесь оружие и отправлялись в Лиханову. 27 числа вечером объявили, что ждут главного начальника. Приехал Шарамович, входил к арестованным г.г. Шацу и Черняеву, затем пошел на свою половину, где писал до 5 часов утра. В 5 часу собрал всех, поставил в две шеренги, назначил офицеров и с ними вернулся в комнату.
После того на Багринского наскочили мятежники, в том числе Котковский, накинули петлю и допрашивали, где оружие[31], где деньги. Он тогда показал ящик, где было 295 рублей и потом чай, где был бумажник с 600 руб.; тут же было 53 р. Деньги проверены и взяты[32].
— После прихода на Мишиху было 3 момента, — продолжал прокурор. — Рассмотрим их каждый отдельно. Если верить Шарамовичу и другим, то в план их не входило вооруженное столкновение с войском: они хотели итти в Посольск, где к ним по пути должны были присоединиться другие партии. Передовой отряд должен был поднимать всех и гнать на Мишиху, устранить все препятствия, захватить оружие и т. д. Начальник передового отряда был Ильяшевич, которому назначен в помощники Вронский. Все было исполнено согласно предположению до Мишихи: подняты 3 култукские партии (150 человек), захвачено оружие и припасы. Отсюда передовой отряд должен был итти в Посольск, захватить там оружие, которого предполагался склад, затем полагали возможным дойти до Читы, захвативши в Верхнеудинске оружие. При этом рассчитывали на бурят; с ними думали тронуться за границу. Все было рассчитано на передовой отряд. Но для успеха необходимо было увлечь дворянскую партию, расположенную за Мишихой. Для этого Ильяшевич поскакал в дворянскую партию. После переговоров, продолжавшихся три часа, Ильяшевич, едва оправившийся после болезни, окончательно изнемог и вернулся в Мишиху. Таким образом, сделавши переход около 80 верст, он не мог двинуться тотчас же и остался до утра. На другой день с Ильяшевичем отправился только Рейнер, староста дворянской партии, с небольшим количеством дворян, дошел до Лихановой. Есть основание полагать, что он был виновником затеявшегося тут дела, сжег станцию, видя неудачу и видя приближение русских войск (майор Рик подошел к Лихановой, когда почтовый дом горел), вернулся к своей партии и на другой день вышел с заявлением покорности майору Рику. Таким образом мятежники потерпели тут неудачу вследствие осторожности дворянской партии, и неудача передового отряда была причиной неудачи всего движения.
Показания конвойных, ямщиков, рабочих, которые читал г. прокурор, рассказывают мелочные подробности, доказывающие, что начальник передового отряда был Ильяшевич; что с ним был Рейнер (в синих очках); что Рейнер читал приказ не обижать никого, не грабить, не даваться в руки живыми, бить русских — показание, убеждающее в том, что Рейнер был в числе самых деятельных зачинщиков и предводителей мятежа, умевший только вследствие своей осторожности принять вид покорного старосты партии. От всех этих показаний Рейнер впоследствии отказался, не опровергая их.
После неудачи под Лихановой наступает второй момент, когда выступает партия Шарамовича и происходит дело на р. Быстрой.
О деле под Лихановой имеется несколько показаний конвойных, ямщиков и хлебопека; наиболее достойны внимания показания поручика Керна и зауряд-есаула Попова.
Е. Попов был извещен поляками еще в Лиственичной о том, что подготовляется восстание, но не придавал этому веры. Когда майор Рик пришел в Посольск, то он послал Керна известить Попова; есаул Попов усомнился, не веря в возможность такого безрассудного движения, и велел солдатам почистить амуницию для встречи г. Рика, сам же пошел с г. Керном к Байкалу смотреть шедший в это время пароход. В 200 саженях Попова и Керна окружили поляки авангарда; часть же из них бросилась к станционному дому. Г. Попов бросился в лес, был схвачен, потом освободился и пошел на Мишиху лесом. Узнавши, что его ищут, он переоделся даже в арестантскую одежду. Унтер-офицер Иванов приказал зарядить ружья и бросился в станционный дом вместе с ямщиками. Здесь они нашли еще патронов и стали отстреливаться. Поруч. Керн, услыхав перестрелку, бросился к станционному дому, вскочил в заднее окно и одушевлял солдат. Тогда мятежники зажгли дом, а солдаты освободились в это время и ушли в лес. Мятежники дали им свободно убежать и сами пустились врассыпную, услыхав о приходе Рика. После дела под Лихановой, Вронский поскакал известить Шарамовича об этом деле; все решили, что, должно быть, прибыл целый батальон; передовой отряд бросился назад, три раненых — все это вместе было причиной деморализации; дворянская партия окончательно отказалась от участия и вышла под предводительством Рейнера навстречу Рику. Таким образом Рейнер, бывший, повидимому, причиною лихановского дела, первый решился сдаться. В Мишихе же, как сказано выше, сошлись 3 култукские партии. Вечером 28-го прибыл Шарамович. Во весь день собирались остальные отсталые и приходили одиночные из дворянской партии, приготовляли оружие, провиант. Шарамович медлил, ожидая известий из передового отряда. Вечером же прискакал Вронский с известием из Лихановой. Шарамович был очень недоволен, приказал разыскать виновника, которым был, повидимому, Рейнер, так как он все время скрывался. В ночь с 27 на 28 происходили совещания у Шарамовича с Ильяшевичем и Целинским; первый предлагал итти напролом, последний — бежать в горы, но первое мнение взяло перевес и решили итти вперед. Шарамович писал всю ночь, затем утром разделил всех на плутонги, поручивши Котковскому стрелков, Квятковскому (Арцимовичу) — пехоту, а Целинскому — кавалерию, назначив из муринской партии к себе телохранителей, распределив офицеров и у. — офицеров, прочел им речь, в которой говорилось что-то о необходимости субординации, и выступил из Мишихи, переправившись последним вместе с сигналистом.
Полковник Шац тогда отправился на лодке в Иркутск, и кроме г. Черняева здесь остаются очевидцами лишь ямщики и женщины. Впрочем, из сличения показаний видно следующее: дойдя до дворянской партии, Шарамович увидал пароход[33] и, догадавшись, что это, должно быть, войска, раскинул цепь около балаганов дворянской партии. Конвой был тут арестован и, как говорят, приказано было колоть конвойных, если с парохода начнут стрелять по шайке. Мятежники встретились с войсками г. Рика на берегу реки Быстрой, на неоконченной дороге. Войска наши имели в тылу дворянскую партию политических преступников. У моста майор Рик увидел вооруженных политических преступников, и так как нельзя было действовать сомкнутым строем, то он тоже раскинул цепь. Перестрелка продолжалась около часа. Тут был убит, как известно, поручик Порохов. Политические преступники все отвергают свое участие в этой стычке, говорят, что они только смотрели, а потом бросились бежать. Но Порохов убит, ему нанесено много ран, следовательно, были же сражающиеся, из которых между тем известны только трое, но самая продолжительность перестрелки доказывает, что преступники дрались и дрались упорно. Первым бежал Целинский, затем остальные. Вронский говорит, что Шарамович хотел убить себя, но он, Вронский, удержал его.
К вечеру подъехали поляки к р. Мишихе и потребовали перевоза. Есаул Прашутинский выслал Цикановского спросить, подчиняются ли они властям, и, получивши утвердительный ответ, приказал подать перевоз; перевозили всю ночь, после чего перевезенные партии направились в горы, перешли за гольцы и последние сдались лишь 22 июля.
О действиях этих шаек известно лишь очень мало, так как все основывается на их личных показаниях, но ясно, что руководители мятежа не теряли надежды пробраться за границу. Но более правильно организованной шайкой является шайка Держановского, наиболее же достойные внимания — это шайка Шарамовича, Целинского и Котковского. Все они сдались, уже перейдя за хребет. Они забирали русских бродяг, заставляя вести себя, но большею частью эти бродяги бежали, и лишь один из них сообщает некоторые сведения об этих шайках.
Вообще, — продолжал прокурор, — если мятеж не удался, то лишь вследствие энергических мер, принятых правительством, преступники же принимали все зависящие от них меры, чтобы выполнить задуманное дело. При незнании местности, мятежники бродили по лесам, умирали и заболевали и, наконец, принуждаемы были к сдаче лишь недостатком пищи; у них были деньги, но к чему вели они в этой пустынной местности, — и им приходилось питаться черемшой, ягодами, даже травой. Выходя к бурятам, они прежде всего старались убивать скот и есть, при встрече же с войсками часто упорно защищались и сдавались только после упорного боя, следовательно, упорствовали до конца.
Преследование, закрытие границы, при чем было уведомлено и монгольское начальство, единодушие бурят — вот что помешало приведению в исполнение их замыслов.
Затем прокурор перечислил отдельные эпизоды сдачи и захвата этих шаек. Опуская эти подробности, скажу только, что шайки Держановского и Котковского держались наиболее правильного направления; 1-я, как говорят, имела вожаком и руководителем бродягу из поляков Жилинского; последняя — бродягу Коровина. Этих бродяг они либо нанимали, либо заставляли вести себя, держа постоянно под конвоем. В двух шайках вожаки, которые вывели их на наши отряды, были убиты. (Чтение вышеизложенного продолжалось до 2 часов. После 1/4-часового отдыха снова приступлено к чтению обвинительного акта.)
— Во всех своих проступках преступники выказали упорное запирательство. — продолжал прокурор. — Несмотря на это, есть множество улик, общее соображение которых приводит к следующим выводам:
Политическими преступниками был сделан бунт против законного правительства намерением избежать установленной законом кары, который по всем признакам относится к преступлениям, предусмотренным ст. 174 ч. I разд. II уголовных военных законов.
Со стороны правительства вызваны были этим бунтом меры, необходимые для отнесения этого акта к указанным преступлениям, именно усмирения военною силою.
Преступление сопровождалось разграблением казенного и частного имущества, порчею телеграфа, насильственными действиями против начальства.
Если преступление не было выполнено, то по причинам, не зависевшим от преступников, принимавших с своей стороны все меры для того, чтобы его выполнить. Ниже видно будет, что преступление было умышленное.
Те, которые сознались, говорят, что целью их был побег за границу; прочее были случайности. Это опровергается обстоятельствами, раскрытыми следствием и подтвержденными присяжными показаниями.
Побег легче мог быть совершен маленькими шайками; для этого не нужно было сплочиваться в массу, потому что чем более была шайка, тем труднее было бы пробраться.
Для побега незачем было итти в Посольское.
Если даже допустить эту цель, то лишь только преступники узнали о приближении войска, они должны были отказаться от своего намерения.
Мятежники хотели отдаться под покровительство Китая.
Значительное число преступников, неодинаковость их вины, различная степень участия воли в выполнении этих преступных замыслов заставляют меня разделить их на несколько категорий.
Обвинение может представить строгие данные в том, что лица, в настоящее время находящиеся перед судом, принадлежали к главным виновникам мятежа, между которыми следует искать зачинщиков и руководителей его.
Прежде всего народная молва, которая так редко ошибается, называла Шарамовича предводителем вооруженного восстания. Его называют все политические преступники. Затем все указывают на Квятковского (Арцимовича), как на главного зачинщика, на одного из самых деятельных помощников, если даже не зачинщиков. Затем на Вронского, адъютанта Шарамовича.
Но прежде, чем оценивать степень виновности означенных лиц, необходимо привести их показания и опровергнуть то, что в них есть ложного.
2.
Иркутск, 28 октября 1866 года.
Вронский, спрошенный первый, показывает, что он ничего не знал о предстоявшем мятеже, но подозревал что-то. Он подозревает Шарамовича, который, переезжая с ним на пароходе, говорил, что хорошо бы захватить пароходы, переехать в Посольское и там сжечь их, а затем итти в Китай. В Култуке, гуляя, говорил, что в простом народе, находящемся на работах, чрезвычайно много сохранилось жизни и энергии. Слышал также, что из-за Байкала получено письмо через бродягу. Зачинщиком он называет старосту Квятковского (Арцимовича), который несколько раз советовался, итти ли. В доказательство возможности побега он говорил, что в Култуке таможня, — следовательно, граница близко.
Он, Вронский, отказывался итти, считая Квятковского человеком глупым. 25 июня, гуляя, он встретился с собравшеюся в поход партиею. Он дошел с нею до Мурина, где Квятковский сдал партию Шарамовичу, говоря: «Вот я привел тебе 150 человек». Вронский уговаривал Шарамовича отложить намерение, но Шарамович говорил, что хочет их же счастия; на доводы об амнистии, Шарамович отвечал ему: «Ты спишь, но ты поляк, неужели ты станешь вымаливать милости у русского царя?». Вронский пошел за Шарамовичем по дружбе к нему, принес себя в жертву Шарамовичу. Самоотвержение его дошло до того, что он, Вронский, отказался от должности адъютанта при Шарамовиче и пошел простым солдатом.
Шарамович отправил его в авангард и дал ему шашку прапорщика Лаврентьева, как самую легкую.
Таким образом Вронский отпирается от участия в заговоре, говоря, что пошел из дружбы к Шарамовичу. Он не отрицает ничего, говорящего в его пользу, но и из этого видна степень его участия.
Вронский говорит, что он не распоряжался арестом полковника Черняева, только видел его, но он же сознается, что, опасаясь грабежа, воспретил обыскивать его, с дороги послал Шарамовичу записку, прося жизни Черняева, и дал г. Черняеву честное слово, что он останется жив, и далее говорит, что Шарамович делал ему выговор за это честное слово, называя его честным словом ребенка. В доказательство небытности под Лихановой Вронский сослался на нескольких преступников, а между тем ездил сказать Шарамовичу о лихановском деле. Что же до другого его показания, что он был принужден к восстанию, то это ложь. Эта пассивная роль не согласуется с удостоверением г. Черняева, что всех злее был Вронский. Затем многие видели его в разных местах восстания, о чем есть несколько присяжных показаний.
На очной ставке с полковником Черняевым он решился сделать чистосердечное сознание и написал его по-польски; оно переведено на русский язык.
Вот оно:
Вронский слышал, что в Лиственичной что-то готовилось. Видя, что Ильяшевич в хороших отношениях с Квятковским, он пожелал знать, что такое затевают; но, увидевши, что Квятковский — человек грубый, необразованный, оставил желание познакомиться с ним. Здесь же он узнал, что затевается решительный шаг и записываются охотники. Когда он сказал об этом Ильяшевичу, тот ответил, что это глупости; Вронский поверил, не думая, чтобы такой дурак, как Квятковский, мог быть важным деятелем. Заметив, что Шарамович ведет постоянно разговоры и имеет тайные свидания, он спрашивал его, о чем эти разговоры, и вступал с ним в споры о возможности привести что-либо в исполнение.
Но в это время случилось какое-то воровство 2 винтовок и побег двух поляков, которые должны были ускорить восстание. В это же время приходил Новаковский и говорил, что теперь многие вышли на поселение, и поселенцы могут свободно сноситься друг с другом. Вронский видел Новаковского и хотел писать с ним что-то, но их разделили. Потом он и перестал думать о восстании, но 25-го увидал, что вся партия идет в Мурино; Вронский пошел с ними. На станции он увидел Шарамовича, которому Квятковский говорил, что он привел ему людей добрых, энергических, не упавших духом и готовых итти на погибель, Вронский говорил Шарамовичу: «Я плохой солдат», и просился назад. «Немощные и трусы пускай идут вымаливать милости у русского царя», — ответил Шарамович. Тогда Вронский пошел, сбросил халат и присоединился к прочим.
Ильяшевич был назначен начальником авангарда, Вронский — адъютантом Шарамовича и тоже должен был отправиться с авангардом и 30-ю отборными людьми. В Снежной Вронский просил Ильяшевича не портить телеграфного аппарата, на что получил ответ, что он дитя. Тогда он узнал, что дело приняло совершенно другое направление[34]. Глупость Квятковского, повешение Лисевича за донос и покража двух винтовок ускорили развязку, которая должна была быть через год. Отправляясь, Ильяшевич давал Вронскому ружье; Вронский говорит, что он не хотел брать его, но Ильяшевич навязал насильно.
Идя по приказанию Ильяшевича к рыбакам за винтовками, Вронский встретил Черняева. Казак, находившийся при г. Черняеве, струсил, но полковник бросил такой взгляд, в котором я узнал величественную душу, — говорит Вронский, — и почувствовал к нему уважение, почему дал честное слово, что его не тронут, и написал об этом Шарамовичу.
На другой станции я просился у Ильяшевича назад, но он не отпустил. На одной из станций, заметив грабеж, он, Вронский, остановив грабивших, даже хотел в них стрелять, напомнив, что они политические, и их хороших дел никто не будет знать, между тем как худые всем будут известны.
После этого к нему стали обращаться с уважением за приказаниями, а потом Вронский ушел в дворянскую партию.
Ясно, что Вронский ничего не приводит тут в опровержение присяжных показаний, которые подтверждают, что он не был простым зрителем, а одним из начальствующих.
Целинский сам написал свои показания по польски. Г. прокурор прочел их по-русски. Он начинает их с заявлений, что государство, утратившее политическую свободу, не может вновь завоевать ее; что знал, что государь не даст прощения, если поляки вновь будут бунтовать; что теперь он ежедневно по 3 раза молится за здоровье государя императора, за которого он сражался на Кавказе в рядах русской армии и т. д.
Квятковский говорил ему, что настроение простого народа принимает дурное направление; что они жалуются на тягость положения, не надеются на будущее, хотя и благодарны государю императору за его милость. Это Квятковский все бунтовал народ, а Шарамович решился увлечь всех поляков и забирать оружие. Все это Целинскому не было известно, но он понимал это, как и многие. Шарамович, присматривая за ним и узнавши о разговоре с г. Черняевым, велел еще строже смотреть за ним. За реку (в стычку) он ходил для того, чтобы поговорить с Шарамовичем о деле; услышав выстрелы, Целинский ушел в лес. Оружия при нем не было, и откуда взялось оружие у других — он не знает. В лесу к нему примкнули все боявшиеся Шарамовича и пошли они, куда глаза глядят[35]. Слышал, как Шарамович приказывал Рейнеру собираться в поход. Он же предложил Целинскому начальствовать. Он, Целинский, отказался, но Ильяшевич пригрозил револьвером.
Его уличают в начальствовании, в том, что он был в деле под Мишихой, но во всем этом он запирается. Когда брали его шайку, он послал купить 15 баранов, но подчиненные закололи 40.
Восстание состоялось бы в больших размерах, если бы не высочайший манифест, который разделил партии. Про Рейнера ничего не знает, знал только, что он собирал свою расходившуюся партию.
— Вообще прибавлю, — сказал г. прокурор, — что Целинский один из тех, на которых так и сыплются улики; кроме множества присяжных показаний, мы имеем против него множество показаний политических преступников. Общее мнение говорит, что он, как по всему видно, был душою восстания; он шел в одной партии с Шарамовичем. При русских он все как-то старался стушеваться, но в шайке он вполне развернулся; его шайка — самая организованная, он назначил себе адъютанта, и когда тот, кому он предлагал это, отказался, — Целинский бил его нагайкой (показания бродяги и поляков). Его шайка сдалась лишь после упорного боя (10 убитых). Все это объясняет он так: людей подбирал, чтобы сдать начальству; порох, оружие брал, чтобы сдать начальству, ушел за Гольцы для того, чтобы сдаться начальству.
Шарамович, дворянин Киевской губернии, начинает свои показания с того, что человек должен откровенно высказывать свои действия, скрывать их может лишь подлец, либо ребенок. Вот сущность его показаний. Начальствовал я, но зачинщиков не знаю, кажется, их было несколько. Вступил в начальство с Муриной, но не подготовлял восстания. Рвение, высказанное людьми простыми, убеждало меня в возможности выполнить предприятие. Начальство предложил мне Квятковский, должно быть, потому, что он считал меня честным. Когда он звал меня к себе, я поехал в култукский лазарет. Я убеждал его не начинать восстания, но он рассказал мне, что уже сделано: собрано оружие, но когда и кем — не знаю. План действий мы обдумали дорогой. Из Посольска я не хотел итти в Нерчинск. Более подробно рассказывать не могу. Из Муриной отправил передовой отряд, приказавши оборвать проволоку; аппарата ломать не приказывал. Из Мишихи шел обычным образом. Впрочем, я забыл сказать: Квятковский привел мне в Мурино около 100 человек, у меня было готовых около 120; я думал, что будет больше, но большая часть муринских разбежалась, в том числе родной брат мой. 16 человек я арестовал и держал их отдельно. О действиях передового отряда не знал, узнал только вечером, что произошло в Лихановой. В Мишихе узнал, что нам не сочувствуют, присоединилось только человек 50, да и все больше из непривилегированных. Из Мишихи хотел итти и провизию везти в лодках, но тут увидел пароход, которого я не ожидал; я думал, что нас будут ждать в Посольске, и затем обойти это селение. Тогда мои тронулись назад по дороге, я вернул их и мы ушли в лес. Мы решили итти, пробираться через горы в Китай. На следующее утро тронулись, раненых я уговорил вернуться. К нам присоединились несколько человек, в том числе бродяги. Потом собралось более 30 человек. Через несколько дней ушел бродяга и 9 человек; нас осталось, наконец, 17 человек; питались травой, рассчитывали на охоту, но убили только трех бурундучков. У меня был сначала револьвер, но кто-то отрезал его[36]. Выйдя к жилью, взяли быка, рассчитывали заплатить за него, собрали деньги, но в это время нас заметили, стали стрелять; мы не сопротивлялись. Буряты связали нас и повезли. До Селенгинска я не говорил о своей фамилии, чтобы не быть зрелищем народа, там сказал. Я смотрю очень высоко на положение политических преступников и потому желал, чтобы все было честно; так как были отступления, то я просил неограниченной власти… (Шум, не слышно) Предположения о захвате парохода не делал. Писем из Нерчинского завода не получал, а слышал, что в Сиваковой были приготовления. Мне предоставили выбирать офицеров, я выбрал; кажется, один из них был Вронский, но не помню. Полковники и офицеры были арестованы без особой цели. О Вронском ничего не могу сказать. Он дитя, мы ссорились, но я его очень уговаривал итти. Целинского встретил в Мишихе, и так как он был прежде майором, то я предложил ему начальство. Докторов уговаривал итти с нами, грозил заставить итти. Но Рейнера не помню. Вронского посылал в передовой отряд. На Быстрой был начальником. Сигналист был, — не помню кто. О побеге из Култука не знал. Жандарма-вешателя при мне не было. Денежных средств не было. При этом Шарамович остался и впоследствии. — Таким образом, при всей напускной искренности, — продолжает прокурор, — он оказался не более искренним, чем другие, скрыл себя и подводил других, выдавая правосудию Квятковского, скрывая других[37]. Затем говорит, что Квятковского и Ильяшевича раньше не знал, между тем как они вместе гуляли и сговаривались. Когда же ему указали на это, — он остался при своем.
3.
Иркутск, 30 октября 1866 года[38].
Казимир Арцимович, в Иркутске переменившийся именем с Квятковским для того, чтобы ехать в Култук, в партию непривилегированных, не отрицает своего участия и говорит, что его уговорил один бродяга из нерчинских заводов, который уверил, что восстание будет повсеместным. Так как это был делегат из заводов, то он не мог его ослушаться. На шайку не действовал угрозами, потому что предприятие всем казалось легким; сознался, что делал большие приготовления к восстанию. Арцимовичу было приказано вывести в Мурино свою партию и сдать ее начальству, что он и исполнил. За взятие каких-либо вещей была объявлена смертная казнь. Говорит о сочувствии русских; полагал, что население не довольно управлением и присоединится к восстанию.
Ильяшевич отрицает свое участие в заговоре и говорит, что участвовал в восстании. Видел, что Квятковский (Арцимович) привел партию в Мурино, выехал к ним навстречу, но заметил, что слишком мало, отказался от участия. Тогда Шарамович предложил ему отправиться с передовым отрядом и отборными людьми, на что Ильяшевич согласился. Был действительно начальником отряда, но не получал никаких инструкций и не приказывал жечь станцию или ломать телеграфный аппарат. Отрекся от участия в совещании.
— При этом, переходя к Рейнеру, укажу, — говорит прокурор, — что он, как и все остальные, систематически отрицает в присяжных показаниях все то, в чем есть проблески истины, забывая при этом, что его преступление было слишком гласно.
Рейнер, староста дворянской партии, говорит, что его силою увезли до Мантурихи и что с дороги он убежал. Это похищение необходимо было придумать, ибо конвойные не видали его в течение 27-го. Его видели на Лихановой; но он указывает на Змиевского, который убит, напоминая, что Змиевский также носил синие очки и тут могла произойти ошибка. Рейнер действительно отсутствовал из своей партии, его видели солдаты нашего передового отряда в лесу. Участие его несомненно; мало того, в его присутствии Ильяшевич сделал более, чем следовало: он завязал перестрелку и сжег станцию. Таким образом 27-го Рейнер был на Лихановой, и 28-го вышел навстречу майору Рику, с своей партией. Его уличают в том, что он был на Сухом Ручье, видели на Лихановой, на Мантурихе; но, узнав о приближении русских, Рейнер ускакал во-время. Когда Вронский привез Шарамовичу известие о лихановской стычке, Шарамович был ею очень недоволен, приказал разыскивать виновных, и Рейнер скрывался. Затем ему нужно было выставиться вперед, и вот он выходит во главе своей партии навстречу Рику. Присутствие его на Мысовой и на Лихановой подтверждается несколькими присяжными показаниями; один из конвойных отлично знал его, как старосту; другие узнали его по цветной рубашке и т. д.
Не менее уклончив Котковский, служивший в военной русской службе, и, как сообщил недавно шеф жандармов, — тот самый, который был жандармом-вешателем в Варшаве, отрезавший ухо г. Фелькнеру и избежавший смертной казни лишь потому, что это открылось после его осуждения. (Котковского передергивает.) Все его показания в высшей степени несообразны. Несмотря на уличающие его показания, он говорит, что он (военный) бежал в лес и там прятался, пока не присоединился к другим шайкам. Личность его между тем такова, что в нем трудно ошибиться.
Вильчевский участия в передовом отряде не отверг. Ильяшевич передал ему полковника Черняева, когда сам поехал в дворянскую партию, при чем Рейнер показывает, что Вильчевский ранен в передовом отряде. Сам говорит, что был в обозе, ушел в тайгу, встретил шайку, которую вел бродяга Жилинский, и присоединился к другим.
Держановский. Один взгляд на него говорит, что это не из тех людей, которые могли бы участвовать в мятеже по принуждению народного правительства. (Держановский — очень плотный, довольно высокий, живой, но несколько горбатый человек.) На Мишихе был с палкой; в Мишихе его видели с ружьем. Говорит, что бежал в лес, сам не приметил, как перешел за Гольцы. Все заставляет думать, что в шайке он был вожаком. То, что его шайка отличается особенной практичностью, всех упорнее держалась, что он принимал участие в приготовлениях и что он во всем запирается — заставило меня причислить его к первой категории.
Итак, совокупность всех данных делает этот акт по всем признакам подходящим к определению бунта. Есть несомненные данные, что он совершен не по внезапному побуждению.
1) Самая громадность замысла убеждает, что он не мог быть сделан, не обеспечивши возможности успеха, для приведения его в исполнение нужно было деятельное участие всех. Невозможно было, чтобы такой замысел явился у всех внезапно. 2) Мятеж вспыхнул через 2 недели по прибытии преступников на Кругобайкальскую дорогу, где тотчас же началось деятельное приготовление в Култуке. Из этого видно, что двигателей следует искать не в кругоморских партиях. Слова Целинского в связи с характером нации указывают, что мысль об уходе за границу была всегдашнею мыслью преступников: из намеков Вронского видно, что преступники постоянно разрабатываются тайными агитаторами. Но открыть гнездо мятежа было невозможно. Очевидно, что заговор был составлен раньше, в Лиственичной, и что только внезапная монаршая милость разделила мнения. Но тем не менее наиболее, упорные умы перенесли ее и в Култук.
Обдуманность заговора подтверждается тем, что Арцимович (Квятковский) должен был привести шайки в Мурино и там уже сдать другому.
Хотя, наверное, замысел был составлен дворянами, но они хотели привлечь простонародье, так как содействие таких агитаторов и деятелей, как Держановский, было им необходимо. Для того, чтобы поднять партию, в Култук послан Арцимович, который, чтобы попасть в партию непривилегированных, обменивается именем с Квятковским в Иркутске, во время совместного содержания с Целинским. В култукский лазарет двигаются все вместе; Ильяшевич и Вронский — необходимые личности, так как Арцимович не знает местных условий. Сюда же, в лазарет, приезжает Шарамович и затем возвращается в Мурино.
В Култуке делались постоянные подготовления, среди балаганов была кузница, обнесенная высоким плетнем, где днем и ночью делалось оружие, пики и т. п. из казенного железа и насаживались на древки. При партиях были сухари, следовательно, заготовлялись заранее. Из Култука и из Мишихи политические преступники постоянно уходили охотиться в тайгу, по всей вероятности, осматривая тропы.
На основании всего этого, находящиеся перед судом обвиняются в преступлениях, предусмотренных в ст. ст. 174, 634, 602 и 603 XII т. свода военных постановлений.
Первую категорию подсудимых составляют: ссыльно-каторжные: Целинский, 48 лет, бывший подпоручик 75-го Севастопольского полка, осужденный за участие в польском мятеже на крепостные работы на 8 лет; Шарамович, сосланный в рудники на 15 лет, Ильяшевич, 26 лет, из дворян Киевской губернии, сосланный в рудники на 12 лет, и ссыльно-поселенец Арцимович, 24 лет, сосланный в заводы на 6 лет, обвиняемые в том, что они замыслили и подготовили преступление, не выполненное ими лишь вследствие посторонних причин; при чем Шарамович обвиняется в том, что был главою вооруженного восстания, а Арцимович в том, что подготовлял к этому восстанию; Рейнер, 21 г., сосланный в рудники на 8 лет, и Вронский, 20 лет, сосланный в рудники на 8 лет, в том, что они приняли непосредственное участие в мятеже и оказали ему энергическое содействие; Вильчевский, 23 лет, сосланный в заводы на 8 л., Котковский, 24 лет, сосланный в рудники на 15 лет и впоследствии оказавшийся жандармом-вешателем в Варшаве, и Держановский, мещанин 42 лет — в непосредственном участии в бунте, замышленном первыми тремя и в предводительстве шайками.
Всем им сроки сокращены высочайшим манифестом наполовину, а Арцимович следовал на поселение.
Для обеспечения иска имеются у подсудимых деньгами 76 р. 90 к, вещей же почти нет никаких.
(Преступники уводятся, остается Целинский.)
Целинский высокого роста, плотный, седоватый и очень сумрачный. Он представил суду письменное оправдание, заключающееся в следующем.
Прежде всего Целинский просил высокую комиссию обратить внимание на его прошедшую жизнь. В 1838 году он, по воле отца поехал за границу, где пробыл до 1850 г., когда возвращен на родину и оштрафован за неявку. В 1853–1857 г.г. занимался дома хозяйством. В 1857 г. за дуэль сослан в Вятку и просился на Кавказ. В 1859 г. служил в Севастопольском полку, и служил честно, доказательством чему служат 5 полученных им наград и личное о нем представление начальника кавказской армии. В 1862 г. получил за храбрость орден св. Станислава и поехал в отпуск на воды, в Пятигорск. Дорогой заболел, опоздал явиться, и за то, что я поляк и не платил контрибуции, сослан в Сибирь. Когда скомпрометирована целая нация, невинные падают жертвами. — Я всегда был убежден, — говорил Целинский, — что если нация утратила жизненные силы, то она не может возвратить их насилием, и что единственное спасение для Польши объединиться с Россией. Такие убеждения я имел прежде, имею и теперь.
Прокурор. Покорнейше прошу суд обратить внимание на то, что человек, следовательно, не знал, что делал, а тем не менее делал.
(Целинский продолжает читать.) Всю жизнь ничего не делал противу правительства и все, что показал, справедливо. Если мое имя так часто называется в этом восстании, то это непременно ошибка или фирма. Ясно, что я не мог приобрести доверия поляков, так как прибыл в Сибирь недавно и не имел в Сибири никаких знакомых, кроме 2–3 человек. Оружия при мне не было. Дорога, по которой шел, не вела к границе. При нашем арестовании не стреляли. Прок. Он ссылается на свою прежнюю службу, которую он разрушил своим первым преступлением, за которое сослан в Сибирь. Что же до того, что он не мог быть начальником, то это опровергается всеми показаниями, которые доказывают, что он был начальником; дорога, по которой он шел, вела именно к границе. Наконец, еще к обвинению его клонится его систематическое запирательство. Целинский. Позвольте, у меня есть еще другое оправдание. Вооруженное участие никогда не был намерен принимать; доказательство, что я говорил об этом г. полков. Черняеву, и когда он посоветывал мне сложить оружие, я принял это за приказание и действительно исполнил его и уговаривал других. Если я последовал за убегающими в лес, то тоже с этой целью. Меня обвиняют ложно; если не верят, то прошу строжайшего следствия. Я хотел хорошо сделать, но запутался; впрочем, полагаюсь на благородство и справедливость здешнего начальства. Прок. Против первого оправдания говорят все донесения воинских начальников, по которым шайка Целинского сдалась с бою; что же до второго, то оно опровергается всеми показаниями, против которых Целинский ничего не приводит.
Предс. Что же до следствия, то оно уже произведено, и суд не находит нужным назначать второе, строжайшее следствие; вы преданы суду на основании этого следствия. Наконец, вместо того, чтобы сознаться во всем том, в чем вы уличаетесь, вы запираетесь, придумываете всякий вздор, говорите, что собирали людей, чтобы сдать их правительству, что хотите служить законному правительству, а между тем знали про заговор и не предупредили нас; вы раньше знали и сами говорили полковнику Черняеву, что говорили об заговоре, на пути из Канска в Красноярск. Подс. Я решительно ничего не знал. Прок. Вы же говорили про какого-то старика. Подс. Я не знаю никакого старика. Полк. Черняев. Вы мне говорили его фамилию — Левандовский. Подс. В первый раз слышу. Черняев. Вы же сказали мне его фамилию. Прок. Наконец, вы получали через него письма, имели тайные свидания. Подс. Нет, я говорил, что только слышал. Черняев. Нет, вы сами называли мне его отставным полковником, вы говорили, что виделись с ним. Подс. Можно узнать, сделать следствие, я ничего не знал, я совсем даже Польши не знаю, и о заговоре ничего не слышал, не знаю даже Шарамовича. Прок. Но тут вот говорится, что вы сидели с ним. Подс. Сидел, да, но ничего не знал о восстании, я с Варшавы постоянно в дороге. Прок. Из всего видно, что вы знали; отчего же вы не предупредили? Подс. Я слышал кое-что, но не придавал этому веры; эти поляки столько говорят глупостей. Прок. Хорошо. Но зачем же вы брались вывести свою шайку за границу, «как израильтян из Египта»? Это ваши собственные слова.
Подсудимый отвергает это, но прокурор прочитывает ему присяжное показание казака. Прок. Потом, выйдя за гольцы, он сражался и был ранен. Подс. Я ничего не жаловался. Предс. Но вас ранили. Подс. Так, немножко.
Прочитывается докторское свидетельство, из которого видно, что Целинский слегка ранен штыком в спину.
Затем прокурор прочитывает ряд присяжных показаний конвойных и казаков, также показания и политических преступников, из которых видно, что Целинский ездил в шубе и кричал: «Пойдем на ура против русского царя»; что в тайге он принуждал одного из своей шайки быть у него адъютантом и за отказ бил того нагайкой; что он был начальником мятежа, приказывал бежать в тайгу; в тайге был начальником и бил одного за то, что тот сделал фальшивую тревогу, сказав, что идут русские; что Целинский шел с пехотою до Мишихи, а потом был начальником кавалерии; что в тайге собирал деньги, что его видели с шайкой и слышали, что Целинского называют начальником; что он хотел повесить одного из поляков и т. д.
Предс. Таким образом против вас ряд улик. Полковник Черняев указывает, что вы были на совещании с Шарамовичем. Узнав о его намерении сражаться, вы могли вернуться, как многие из ваших товарищей, но вы перешли р. Мишиху, сражались на Быстрой, в тайге были начальником шайки, взяты, наконец, с оружием в руках и ранены. Подс. Эх, ваше превосходительство, все это ложь! Разве можно верить тому, что говорят эти поляки?
Затем Целинский продолжал в этом же роде, не приводя других фактов; тогда председатель предложил ему подписать, что других фактов в опровержение обвиняющих его показаний он не имеет, что было исполнено Целинским, и тогда приведен был Шарамович, среднего роста, плотный мужчина, с черною густою бородою, быстрым взглядом и очень спокойным выражением лица.
Прок. объявил, что Шарамович сознался в своем преступлении: все разногласие между вашими показаниями и показаниями других, — говорил прокурор, — состоит только в том, что вы не сознаетесь, что подготовляли восстание и принуждали к нему угрозами, сваливая это на Квятковского. Вы обвиняетесь в том, что вы были одним из главных зачинщиков восстания и предводителем вооруженного мятежа. Шарам. Про Квятковского, это не более, как выражение дум моих. Я не обвиняю его в том, чтобы он был зачинщиком; я сказал только, что имел с ним сношения. Мое оправдание. Я был свободен, но меня лишают свободы, лишают имения, вырывают из круга семьи, друзей, лишают всего, что составляет нравственную природу человека… Предс. Это не составляет вашего оправдания, это ваше прошедшее. Зачем же вы сами уничтожили это счастие? Но это не идет к делу. Не имеете ли вы чего сказать в свое оправдание? Шарам. Мне показалось, что я могу говорить свое оправдание. Предс. Вас обвиняют за кругобайкальское возмущение. Имеете ли вы что-нибудь против этого обвинения? Шарам. Я могу только то ответить, что то, что я мог бы допустить, как оправдание, суд не может принять. Я знаю, что я решился возвратить себе свободу путем, признанным, по общепринятому государственному порядку, незаконным. Суд, я знаю, рассмотрит мою вину, и если есть что-нибудь, облегчающее ее, то найдет; надеюсь, что здесь будут судить меня справедливее, чем в Польше. Предс. Эту самую свободу, которую вы искали, вы могли приобрести другими путями, а не новым преступлением. Отвечайте нам о ходе дела. Положим, что вы хотели бежать за границу, но зачем же вы принуждали других, угрожая такими средствами, как пуля? Шарам. Такими средствами я не принуждал; я просто убеждал их присоединиться и итти, не имея сперва в виду, что дело дойдет до вооруженного столкновения. Предс. Но цель не оправдывает средства. Если вы действительно хотели бежать, то вы могли просто бежать; вы же избрали средством, для достижения своей цели, вооруженную силу. Вы говорите, что имели в виду не бунт, а побег, а между тем сделали бунт. Шарам. Я не имел в виду этих средств. Предс. Мало того, вы употребляли насилие. Шарам. На очных ставках меня никто не уличил в этом. Предс. А эта речь, которую вы им говорили? Шарам. Я объяснял им, что за всякий неблагородный поступок виновник будет строго наказан. Прок. Цинголевский уличал вас, что вы обещали пустить пулю в лоб тому, кто подойдет к русскому начальству. Предс. Самое лучшее доказательство вашего запирательства, — это то, что вы запираетесь даже в таких фактах, как то, что вы, например, сговаривались с Ильяшевичем и другими. Шарам. Положим, но я сказал, что об Ильяшевиче ничего не знаю. Предс. Все — «не знаю». Как же сделалось восстание, о котором никто ничего не знает? Шарам. Не знаю. Предс. Все говорят, что вы были главным начальником еще раньше восстания. Шарам. Раньше, чем было восстание? Предс. Да, все говорят это. Шарам. Если моя фамилия сделалась известна, то только со времени восстания. Предс. Вы не знали, что Квятковский хочет поднять восстание? Шарам. Я знал, что Квятковский что — то хочет сделать. Предс. Вы постоянно с ним советывались? Шарам. Моего взгляда на это Квятковский не знал. Предс. Не имеете ли вы еще чего оказать в свое оправдание? Шарам. Нет, я совершенно отдаю свою судьбу в руки суда, и уверен, что суд найдет оправдания, которые возможны.
Его уводят и приводят Арцимовича (Квятковского).
Прок. обвиняет его в подготовлении восстания, в том, что он был главным деятелем, увлек свою партию и вел три култукские партии до Мишихи, где сдал начальство Шарамовичу. После принимал деятельное участие в мятеже и сдался только при последней возможности. Арцимов. сознается во всем[39], имел в виду побег за границу, подготовлял восстание, по приказанию народного правительства, полученному через бродяг Жилинского и Новаковского. На дальнейшие расспросы о начале мятежа отвечал, что больше ничего не знает. В оправдание говорит только то, что хотел освободиться, а других фактов для оправдания своего не имеет. Его уводят.
По уходе Арцимовича приводят Ильяшевича, высокого, худощавого молодого человека, с болезненным румянцем, на костылях, поддерживаемого солдатом[40].
Прок. обвиняет его в том, что он задумывал и подготовлял восстание вместе с Шарамовичем и Квятковским, был начальником передового отряда, арестовал своих действительных начальников, и, как уличал его Вронский, приказал на Снежной сломать телеграфный аппарат и порвать проволоку. Предс. Что можете вы сказать в свое оправдание? Ильяш. Восстание я не подготовлял, а только слышал, что собираются итти за границу. Предс. О чем же происходили у вас такие продолжительные совещания с Шарамовичем и Квятковским? Ильяш. Я никогда не имел совещаний ни с Арцимовичем, ни с Шарамовичем… Предс. Из дела видно, что вы имели их. Ильяш. Кроме того я два — три раза разговаривал с Арцимовичем не о восстании. Предс. Вас может обличить Вронский. Ильяш. Вронский, пожалуй, обвиняет меня и в том, что я приказал сломать телеграфный аппарат. Прок. А вы отрицаете это? Ильяш. Вам, должно быть, очень хорошо известно из обстоятельств дела, что я был сзади, с отрядом, и когда пришел, то аппарат уже был сломан. Предс. Но свое командование передовым отрядом вы не отрицаете? Ильяш. Не отвергаю, что я был начальником передового отряда.
Приводят Вронского.
Вронский. Ильяшевич несколько раз видел, что Шарамович с Квятковским собирались и советовались что-то делать. Ильяшевич настолько любопытен, что он должен был поинтересоваться узнать, что затевается. Когда я спрашивал, действительно ли собираются уходить за границу, он отвечал, что нет. Ильяш. Может быть, я говорил вам, что так слышал от других? Врон. Несколько десятков раз, когда я спрашивал вас, что затевается, вы отвечали мне: «Спросите у Шарамовича, пусть он вам скажет». Вы часто разговаривали с Шарамовичем, и все вместе говорили с Новаковским[41]. Когда я говорил вам, что нет никаких средств уйти за границу, вы отвечали, что есть, — это восстание. Предс. Вы говорили с Новаковским? Ильяш. Когда мы говорили? Врон. Я говорю истинную правду. Ильяш. Я действительно говорил с Новаковским. Врон. Помните, где мы с вами ходили чай пить, еще повозка была готова, я спросил вас, об чем вы говорили, и вы ответили, что Шарам. будет главным начальником в восстании; спросите его. Ильяш. Вообще, если мы разговаривали, то о том, как итти за границу. Предс. Вы, следовательно, заранее знали, что Шарамович будет главным начальником? Ильяш. Ничего я не знал. Мы избрали его; когда он дал мне поручение итти с передовым отрядом, я подчинился ему и принял эту должность. Предс. Вы приняли. До тех пор, вы, стало быть, уже стояли в рядах. Допустим, что вы ничего не могли сделать, пока стояли в рядах; но когда вы приняли начальство, вы могли явиться русским властям вместе с своим отрядом. Но вы не сделали этого. Стало быть, вы не отвергаете того, что действительно были начальником передового отряда? Ильяш. Не отвергаю. Прок. Мало того. Он так усердно исполнял эту должность, что сжег станцию и приказал сломать аппарат, несмотря на то, что Вронский удерживал его от этого, так что даже Шарамович был недоволен. Врон. Я говорил ему, — не портите аппарата, — он стоит народу так дорого с доставкою сюда, а он только рассмеялся. Ильяш. Как же я мог портить, когда я там не был? Вам это должно быть известно. Врон. Да, но я говорил вам, как начальнику. Ильяш. Я не отдавал приказания портить аппарат, но когда приехал, то узнал, что аппарат уже испорчен. Предс. Вронский показывает, стало быть, что он говорил начальнику авангарда не портить аппарата, но Ильяшевич не сделал распоряжения об этом. Ильяш. Да, так как Вронский всегда говорит много вздора. Врон. (Начинает очень скоро говорить что-то, чего нельзя расслышать.) Я уж не знаю, как говорить, вы отперлись. Я вам говорил, вы рассмеялись, сказали мне, что я ребенок. Предс. Отчего же вы вместо того, чтобы сделать распоряжение, назвали Вронского ребенком? Ильяш. Оттого, что он действительно ребенок.
4.
Иркутск, 30 октября 1866 года.
По уводе Вронского, прокурор читает защитительную речь Ильяшевича. Вот ее содержание:
«Меня обвиняют еще в том, что я силой принуждал итти, но кто же уличает меня в этом? Обвиняют в аресте полк. Черняева, но он сам свидетельствует, что арестован без моего ведома. Говорят, что я обезоруживал конвой… Да, я так же, как другие, желал освободиться. Если я принял начальство над авангардом, то потому, что во мне развито понятие субординации. Я не участвовал в деле под Быстрой, хотя и был с оружием. Вы будете судить меня перед глазами всей России, перед глазами Европы, народная молва произнесет со временем приговор над нашими поступками, и кровь осужденных вами падет на вашу голову и детей ваших. Народная молва говорила, что мы навеки здесь останемся; мы сделали попытку освободиться. Неужели вы осудите меня за эту попытку? Я знаю, когда Бенявский бежал из Камчатки с 4-мя камчадалами-проводниками, то эти камчадалы были привезены в Россию. Узнавши, что эти бедные люди чахнут вдали от родины, Екатерина II возвратила их на родину. Это было в XVIII в.; неужели теперь, когда все понятия изменились, вы осудите меня за попытку освободиться?»
Предс. Вы хотели вооруженною силою вернуть себе свободу? Ильяш. Я понимаю, что средство, избранное мною, признается незаконным. Предс. Вы оправдываете свою цель, забывая то, что цель не оправдывает средства. Вы избрали средством бунт. Мы судим то, что совершилось. Какая же была у вас цель впереди, куда вы хотели пробраться, — нам нет дела. Дело в том, что вы совершили бунт, умерщвляли людей, грабили, жгли… Ильяш. Я не отдавал приказания жечь станции. Предс. В записке вы говорите, что думали навеки остаться здесь; вы забываете монаршую милость. Если в 1-й год вашей ссылки столько для вас сделано, то нечего было думать, что вас навеки здесь оставят. Наконец, записка вовсе не идет к делу. Вы не хотите нам сказать, где начало мятежа, а между тем вы должны знать, где это начало. Когда вы были в Лиственичной, тогда уже было предположение уйти, придя на дорогу. Ильяш. В Лиственичной я ничего не знал. Предс. Но когда вы были в Култуке, вы должны были узнать от Арцимовича, от Новаковского, что готовится восстание. Ильяш. Новаковский ничего не говорил о восстании, просто хотели уйти за границу. Предс. Но как же вы хотели привести это в исполнение? Ильяш. повторяет, что не имели в виду вооруженного восстания, и затем дает подписку в том, что более ничего не имеет сказать в свое оправдание. Его уводят.
Приводят Рейнера. Молодой человек, блондин, без бороды, красивой наружности, в синих очках, движения очень сдержанные.
Прок. обвиняет его в деятельном участии в мятеже; в том, что Рейнер, тогда как его партия не тронулась (он был старостой дворянской партии, расположенной в 6 верстах от Мишихи), ездил в Лиханову, сжег там станцию, и тогда только вернулся и заявил свою покорность, выйдя навстречу майору Рику. Поэтому прокурор причисляет Рейнера к наиболее опасным участникам мятежа, которые свои преступные замыслы прикрывают наружною покорностью. Кроме того Рейнер обвиняется в участии в совещаниях, в чтении приказа мятежникам и в участии в лихановском деле. Рейнер представил суду письменную защиту. Он говорит в ней: «Судьи, я еще раз заявляю свою невинность и прошу обратить внимание на то, что я не участвовал в деле, и на людей, дающих; показания в том, что они меня видели. Показание Вронского не может быть принято, что он сам не помнит, что говорит. Показания солдат. Но я объяснил уже, что это неизбежно, ошибка. Другого, убитого, приняли за меня по внешнему сходству. Писарь Багринский, но его показание не может быть принято. Я был старостою, и мне часто приходилось принимать от него испорченную провизию, мы часто имели с ним неудовольствие. Затем показания крестьян даны ими по следующим причинам. Когда меня привели в следственную комиссию, то там, где мне приходилось ждать, пока меня позовут, я увидел на дороге толпу крестьян, среди которых находился Багринский. При моем приходе, он горячо принялся рассуждать, показывая на меня. Через ½ часа опрашивали крестьян, и ясно, что их показания сделаны под влиянием Багринского; но и тут даже на первом показании, так как совесть не позволяла им говорить утвердительно, они сказали, что, кажется, это был я. Спрашивается: возможно ли доверить таким показаниям? Этим оканчивается моя защита».
Прок. Несмотря на это, против Рейнера есть целый ряд показаний. Вронский говорит, что он хотел быть начальником партии. Все показания солдат (прокурор перечислил их имена) говорят, что Рейнер уезжал в то время, когда передовой отряд ходил к Лихановой; одни говорят, что не видали его в это время; другие видели, что он ездил, вернулся с офицерской шашкой, называли даже масть коня, на котором он ездил. Другие конвойные показывают, что он приказывал отбирать у них оружие; крестьянин Попов и другие (прокурор перечисляет их) утверждают, что Рейнер был главным во время поджога лихановской станции. Таким образом мы имеем против Рейнера ряд присяжных показаний рядовых и крестьян и бесприсяжных политических преступников. Что же до оправданий Рейнера, то если бы даже и не доверять Вронскому, то остаются ничем не опровергнутые показания солдат и крестьян. Голословно же отвергать присяжные показания невозможно. Рейнер. Спросите архитектора. Прок. Он уже был спрошен раньше. Предс. Наконец, против вас показания телеграфного ревизора. Вы говорите в своей защите, что показания крестьян не могут быть приняты, но крестьяне допускаются в свидетели законом. Затем кроме этих показаний есть еще несколько других, которые очень хорошо описывают вашу личность, синие очки, одежду. Все они говорят, что вы были еще при сожжении лихановской станции. Прок. Конвойные не признали его, но крестьяне, бывшие с майором Риком, в один голос признали его. Предс. Так отвергать показаний нельзя. По закону достаточно двух присяжных показаний, а тут их еще несколько. Чтобы опровергнуть их, вы должны привести по крайней мере столько же присяжных показаний. Рейнер. Что я отлучался от партии, это я сам сказываю. Прок. Разница большая ездить по увлечению, или быть самому деятельным участником и начальником. Рейнер. Телеграфный ревизор не может говорить этого, так как я не видал его. Предс. А ямщик Ермаков? Он уличал вас в том, что вы ехали начальником. Рейнер. А почему он это знал? Предс. Это очень хорошо можно понять по действиям. Прок. Присяжные показания такого-то говорят, что при сожжении лихановской станции он принимал в этом непосредственное участие и стрелял в конвойных. Рейнер. Как же мог он это видеть? Предс. Он видел это, когда конвой отстреливался из станции. Рейнер говорит, что все это ложь, но председатель возразил ему, что так нельзя опровергать присяжных показаний, уговаривал Рейнера сознаться и указать зачинщиков бунта, но подсудимый продолжал утверждать, что ничего не знает. Тогда ему предложили дать подписку, что он более ничего не имеет в свое оправдание и увели.
Приводят Вронского, очень молодого человека, с свежим, довольно красивым и полным лицом и очень быстро бегающими глазами, низенького роста. Вронский, как известно, сознался во всем, и его оправдание заключалось лишь в том, что шел за Шарамовичем по дружбе к нему. Когда у него спрашивали более подробных сведений о начале мятежа, то он объявил, что сказал все, что подробностей не мог знать, так как он был болен, находился в лазарете и ничего не слышал.
Приводят Котковского.
Прок. обвиняет его в том, что он принял участие в мятеже, был одним из самых деятельных участников, командовал плутонгом на Мишихе, забирал провизию из магазина, командовал цепью в деле под Быстрой, затем обманом переправился назад через Мишиху, а после бежал в тайгу. В тайге предводительствовал шайкою и держался до последней возможности, сдавшись только с боя. По приказанию его надевали петлю на шею Багринского, чтобы узнать, где оружие и деньги. Наконец, шеф жандармов сообщил, что в Варшаве Котковский был жандармом-вешателем и участвовал в убийстве Фелькнера и отрезал ему ухо. Котк. оправдывается тем, что Багринский зол на него, так как он был помощником старосты и часто ссорился с Багринским за дурную провизию. Вся история про надевание петли — вымысел. Затем Котковский говорит: «Я из прусского войска поступил в военную службу»… Предс. Это ваше прошедшее. Оставьте его. Прокурор обвиняет вас в том, что вы принимали участие в мятеже, командовали отрядом. Котк. Я командовал цепью, но по приказанию Шарамовича; я не мог ослушаться, так как боялся револьвера. Предс. напоминает ему, что 100 человек из их партии остались на месте. Прямо ссылаться на принуждение нельзя, нужно привести доказательства. Котк. Вронский говорит, что я командовал цепью, но он сумасшедший. Предс. Для того, чтобы решить, сумасшедший ли он, есть правительственные установления. Если его показания приняты судом, то вам нечего говорить об этом. Котк. просит новых очных ставок, чтобы доказать, что он не был начальником шайки. Предс. Зачем эти очные ставки? Вы хотите оправдаться? Котк. Да. Предс. Но это совершенно не нужно, когда все взятые с вами прямо говорят, что они были в шайке Котковского. Котк. Я хотел показать людей, которые подтвердили бы, что я насильно взят. Предс. Показания политических преступников не будут иметь силы против присяжных показаний. Котк. Не знаю, на каком это законном основании. Наконец, я должен напомнить, что говорят, что я забирал провизию; но все, бывшие в Мишихе, хозяйничали ею. В восстание же я пошел насильно, наравне с другими. Предс. И все время шли насильно? Котк. Я боялся пули. Предс. В Варшаве вы были смелее. Котк. Вы говорите про Варшаву; там один человек оговорил меня, и я за это сослан в Сибирь. Предс. Не об этом разговор. Вы говорите, что вы пошли насильно. Но были у вас товарищи, которые даже сперва приняли участие, а потом уходили, являлись начальству. Вы же ушли в тайгу и держались до последней возможности. Котк. Я заблудился в тайге. Предс. Незачем было ходить так далеко, чтобы можно было заблудиться; вы могли сдаться в Мишихе. Котк. Я бежал в лес, а потом боялся выйти, чтобы в нас не стреляли; в тайге же я вовсе не был начальником. Прок. Для этого нужны доказательства. Котк. Какие доказательства там, где людей нет? Предс. Одним словом, вы и этого обвинения не опровергаете; вы могли остаться на дороге. В тайге же все называют вас начальником, так прямо и говорят, что шли в шайке Котковского.
Приводят Держановского, очень высокого, плотного брюнета, сутуловатого и даже несколько горбатого. Прок. обвиняет его в участии в бунте и в том, что он в тайге был начальником шайки. Держ. переспрашивает, что такое, говоря, что он глухой; ему кричат, в чем состоит обвинение; затем Держ. громко говорит на полупольском, полурусском языке, беспрестанно переходя перед столом с места на место, справа налево. Сущность его оправдания состоит в том, если бы он был начальником, то собирал бы коней, оружие и т. п. Между тем в этом его не обвиняют. За горами же его не взяли, но они сами добровольно сдались. Один из членов комиссии. Говорят, что вы в тайге были начальником? Держ. Пресвятая комиссия, какой же я начальник? Я не знаю ни читать, ни писать, карты не знаю. Чл. суда. Казаки говорят, что вы были. Держ. У меня не было очных ставок с этими казаками. Предс. Нет никакой надобности, казаки описывают вашу наружность, говорят, что такой-то был начальником шайки. Держ. Жилинский, бродяга, был начальником, ибо Ж. знал положение и водил нас. Чл. суда. Зачем же вы пошли в лес? Держ. Два раза мы ходили на дорогу, но казаки по нас стреляли, мы и отошли в лес. Предс. Казаки в вас стреляли, когда вы сами стреляли; это было за гольцами. Чл. суда. Ружья имели с собою? Держ. У меня не было. Предс. У кого же были? Держ. Не знаю; палка у меня была. Чл. суда. Кто же вам дал ее? Держ. Моненский; он был десятником. Предс. А это было у вас в шайке (показывает компас, вынутый из теодолита)? Держ. У кого-то было в шайке. Предс. У кого же взяли эту вещь? Держ. Не знаю. Чл. суда. Ты был начальником? Держ. Нет, Жилинский! Предс. Есть показание воинского начальника Матвеевского. (К прокурору). Прочтите его! Прок. читает, что отряд стоял у подножья горы Конгура, чрезвычайно высокого и крутого. По хребту ходили пешие патрули, которые сперва схватывали только одиночных поляков. Но в полночь на отряд напала вся шайка и начала стрелять. Тогда захватили 15 человек. В числе 12 человек сдавшихся был начальник шайки, Держановский, — в офицерской портупее, высокий, суровый мужчина, с истинно-воинскою физиономиею. При опросе они показали, что намерены были пробраться в Монголию. Держ. Как перешли мы на ту сторону воды (р. Мишихи), то пошли в лес; как заслышали выстрелы, бежали, дошли до братских и вышли из лесу к казакам. Чл. суда. Бились с ними? Держ. Нет, офицер еще дал нам поесть за то, что сами вышли. Некоторые остались, а мы вышли. Прок. Часть из них действительно выходили по одиночке, но некоторые дрались. Держ. утверждает, что сам сдался, что в шайке было только два ружья, но что оба не стреляли.
Приводят Вильчевского, из рядовых, молодого, сухощавого, белокурого, низкого роста, с очень обыкновенным лицом. Прок. обвиняет его в том, что он участвовал в бунте, был в передовом отряде, арестовал полковника Черняева и, по показаниям Вронского, целился в него карабином; по показаниям нескольких портил телеграф; на Мишихе распоряжался, как начальник при расхищении магазина; ушел в тайгу; шел с шайкой до последней возможности, и ранен, следовательно, сражался.
Вильч. Я не знал, что здесь был заговор вооруженного восстания, а просто хотел итти за границу. Предс. Да, но этот побег вы исполнили с оружием в руках? Вильч. Нас заставили присоединиться, так что я принял участие не совсем добровольно. Предс. напоминает ему, что из их партии из 100 человек ушло 26, так что он мог остаться. Вильч. Они были за это арестованы. Предс. Кто же их арестовал? Вильч. Шарамович; поручик Лаврентьев освободил их из-под ареста Шарамовича! Предс. Какой же это арест, много ли человек караулило? Чего же вы, наконец, боялись? Вильч. А почем было знать? В Мишихе собралось много народа. Мало ли, что они могли с нами сделать. Предс. Но зачем же вы были в передовом отряде? Туда посылались отборные люди. Вильч. Нас было 32 человека; я был, как и все. Предс. Зачем же вы портили телеграф? Вильч. Нам было приказано. Предс. А на Мишихе вы распоряжались? Вильч. Да, пришли сказать, что из магазинов берут разные вещи; я сделал распоряжение не трогать и пригрозил за ослушание. Предс. А как вы ранены? Вильч. Случайно, — я не сражался, я шел голодный, слабый, и был ранен в 3 шагах от есаула Матвеевского; он может подтвердить это. Предс. А остальные? Вильч. Были которые оборонялись; я же шел совершенно слабый и хотел сдаться. Прок. Он взят в шайке Держановского. Вильч. Нет, Жилинского. Предс. Жилинский, бродяга, вел вас. Кто же был начальником? Вильч. Жилинский, бродяга из поляков. Он вел нас. Предс. Зачем же вы не остались на дороге, а ушли в горы? Вильч. Нас было несколько человек; вечером все мы вместе хотели выйти, но увидали только крестьян, готовых стрелять в нас, мы ушли; потом нас собралось человек 60–70, встретили Жилинского, он и взял нас вывести за границу. Предс. Во всяком случае вы не отвергаете участие в арестовании полк. Черняева? Вильч. Нет, не отвергаю, но я был послан Ильяшевичем. Предс. А кто же вам приказывал целиться карабином в полковника Черняева? Вильч. Это неправда. Полковник даже сам просил меня остаться при нем, так как он меня раньше знал. Полк. Черняев. Это правда, действительно, он со мною шел и шел впереди; я не видел, чтобы он целился и едва ли он имел возможность это сделать. Предс. Хорошо, но во всяком случае вы не отвергаете, что участвовали в арестовании полковника Черняева, были в передовом отряде, не сделали никакой попытки уйти, между тем как 500 человек ушли… Вильч. Это было после, после. Тогда нельзя было, и мы ушли в лес. Предс. Кроме этого ничего не имеете в свое оправдание? Вильч. Ничего более.
Подсудимого уводят, и судьи уходят для совещаний.
5.
Иркутск, 2-го ноября 1866 года.
На следующий день, 25-го происходило 2-е заседание суда. Публики было уже несравненно меньше, чем накануне, не более 30 человек.
В залу введены были преступники 2-й категории в числе 52, и, по прочтении им приказа командующего войсками о назначении суда, прокурор стал читать обвинительный акт. Изложивши, как произошли беспорядки на кругобайкальской дороге, он продолжал так или почти так:
«В настоящее время честь имею представить суду преступников 2-й категории, среди которых следует искать гнездо мятежа. Если лица, осужденные вчера, были главными зачинщиками и руководителями этого гнусного злодеяния, то, в настоящее время, мы имеем пред собою тех, без которых мятеж был бы немыслим, так как они принимали непосредственное вооруженное участие или подготовляли восстание. Все они силятся доказать, что шли по принуждению и не участвовали в стычке с войсками. Они указывают двух-трех лиц, которые, по их словам, принудили их принять участие в мятеже, но забывают свою численность, перед которою бессильны 2–3 лица. Они отвергают свое участие, но кто же жег, грабил, стрелял, сражался с Пороховым и т. д.? Но десятки посторонних свидетелей узнали их, и хотя они отвергают эти показания, но ничем не опровергают их. Частности их преступлений и присяжные показания в подтверждение обвинений будут приведены особо, при обвинении каждого из преступников.»
После этого преступники были уведены, и оставлен
1. Александрович, Виктор, раненый пулею из револьвера Порохова и взятый на Мишихе в то время, когда шел, чтобы сдаться нашим войскам по совету Шарамовича, что подтверждается тем, что Шарамович говорил, что, действительно, увидя в лесу одного раненого, посоветывал ему сдаться.
Подсудимый оправдывается тем, что раньше ничего не знал. Наехали люди, которых он не знает, и погнали всех, не говоря куда. Когда Александрович услышал выстрелы, то бежал и ранен своими, ибо русских войск не видал. В подтверждение того, что действительно, ранен своими, никого не может привести. Кто был старостою партии, не знает, ибо просто звали его старостою. Других фактов в свое оправдание не привел.
2. Бартольд, взятый без оружия за гольцами. Против него есть показание полк. Черняева, что на Мишихе он приходил к Шарамовичу, сделал ружьем на караул и рапортовал о побеге двух поляков. Кроме того, политические преступники говорят, что он был помощником Арцимовича, считался как бы начальником отдельной шайки и конвойных; что он первый вбежал в балаган, чтобы обезоружить конвой. Сам показал, что шел с палкой, и сознался, что был солдатом; прочее отрицает.
Обвиняется в том, что ушел из партии, принуждения не доказал, шел с ружьем, обезоруживал конвой; есть подозрение в том, что был под Быстрой, ибо имел ружье. Наконец, явное запирательство. Все это подсудимый отрицал, и когда была дана ему очная ставка с одним из рядовых-конвойных, то этот последний объявил, что вся партия ворвалась в балаган арестовать их, и был ли он тут или нет, — не припомнит. Все были кто со штыками, кто с шестами.
Других фактов подсудимый не привел.
3. Юркевич, мещанин, явился сам без оружия; из 1-й култукской партии дошел до Мысовой (170 верст). Показывает, что шел по принуждению, был в обозе оружия и оттуда бежал, заслыша выстрелы; найден шайкою Шарамовича и через 2 дня бежал. Рядовой Хаймович уличает его в том, что он был на Мысовой с оружием, ставил там самовар и предлагал Хаймовичу пить чай. При этом прокурор замечает, что конвойным показывали политических преступников в массе, и они в массе узнавали их, говоря такой-то был, такой-то не был[42]. Подсудимый оправдывается тем, что хотел бежать за границу; но когда увидел, что им грозит голод, вернулся. Прокурор просит суд обратить на это внимание, как на доказательство упорства воли, уступившей только такому влиянию, как голод.
4. Сарнецкий, кузнец, 1-й Култукской партии. Следовательно, занимался приготовлением оружия в домашней кузнице между балаганами. Многие политические преступники указывают на него, как на помощника Арцимовича. Кроме того, есть несколько показаний, что на Мишихе был начальником телохранителей Шарамовича, и говорят, что он знал бродягу Жилинского. Только отсутствие особенно резких указаний заставило отнести его во 2-ю категорию, а не в первую.
Подсудимый отрицает все это, говоря, что действительно был кузнецом, но занимался выделкою ножей и т. п.[43] Сознается, что был с ружьем, но это ружье дал ему Шарамович, а сам шел по принуждению, боясь смерти, так как Квятковский читал наказ, угрожающий смертью тем, кто не пойдет с партией.
5. Олторжевский, крестьянин, явился 16 июля к майору Рику. Архитектор Чистяков уличает его в том, что он был на Мишихе с оружием. Подсудимый сознается, что был с шашкой, но ее дал Шарамович неизвестно для чего.
6. Бартасевич, крестьянин, которого Хаймович видел в передовом отряде, на Мантурихе, взятый 22 июля за гольцами, отрицает свое участие и говорит, что не имел никакого оружия, даже палки.
7–11. Крестьяне Кащевский, Бужинский, которого Арцимович рекомендовал Шарамовичу, как особенно надежного человека; Моневский, на которого падает подозрение, что он объявил приказ народного правительства, и Крыжлинский, конвоировавший полк. Черняева, которых многие видели в разные моменты восстаний с оружием, в передовом отряде на Лихановой, Мысовой и т. д.; все отрицали свое участие, говоря, что тут должна быть ошибка, если их признали конвойные.
12. Затем приводят Ранецкого, крестьянина из 1 култукской партии, взятого 30 июня в окрестностях Мишихи. Он ранен пулею, которая, как видно из докторского свидетельства, вошла в глаз и раздробила подбородок; она ударилась в нижнюю челюсть, отскочила рикошетом назад и оторвала верхушку языка. Подсудимый не может говорить, почему в следственной комиссии не могли отобрать от него показаний. На вопросы председателя, он издает глухие звуки, из которых лишь по догадке можно составить слова; подсудимый говорит, что ранен на Мишихе в тайге; выходил оттуда, русские стреляли и ранили. Предс. возражает, что этого не было, что наши войска стреляли только на Быстрой. Прокурор прочитывает выписку из журнала штаб-р. Ларионова, из которой видно, что на левом фланге патруль наткнулся на 6 чел., которые сделали 4 выстрела и бежали. На месте остались 3 раненых, из которых один вскоре умер, у другого оторван язык. На месте найдено 1 ружье, 1 пика, 1 шашка и 1 коса.
13. Квятковский, крестьянин, обменявшийся именем с Арцимовичем, говорит, что был за р. Мишихой; Шарамович выстроил их около моста, они выстрелили и бежали в тайгу, где встретились с Шарамовичем. Когда они хотели вернуться, он уговаривал их итти, обещая вывести за границу. Обменялся именем, так как его уговаривал один высокий старик, — опекун двух молодых близнецов Левандовских, следовательно, это был Целинский, говоря, «пойдем с нами, ты будешь нам в партии прислуживать за деньги». Подсудимый согласился, так как тут он делался дворянином.
14. Зарембский, мещанин (заявил суду, что на самом деле он — дворянин и чиновник), взят в шайке Котковского. На него указывают, как на помощника Арцимовича; поручик Лаврентьев говорил, что когда Арцимович в 7 вер. от Мурина, уехал вперед, то Зарембский остался начальником; есть показание, что он знал о предстоящем восстании, что он был конвойным при поручике Лаврентьеве; что ехал с мятежниками, но без оружия, наконец, есть еще показание одного политического преступника, что когда шли, то Целинский говорил, что Зарембский назначен тайным комитетом, как один из руководителей. Подсудимый объясняет 1-ое показание так, что поручик Лаврентьев, знавший его, обратился к нему с вопросом, и он отвечал, но начальником не был, так как на 7 вер. не к чему было назначать начальника, и если бы, действительно, был начальником, то имел бы оружие. Хотя не видался с Новаковским, но знал о подготовлявшемся восстании и говорил с Ильяшевичем, но всех громил за это и не хотел итти, имея жену и детей. Квятковский поэтому не доверял ему. Не донес же потому, что не хотел быть шпионом.
15–17. Ковальский, Клобушевский и Мысловский, хотя и видали их с оружием, но отвергают свое участие в мятеже и говорят, что шли по принуждению.
18. Шендер из евреев, взятый за гольцами, и по показанию есаула Прашутинского и одного рядового, бывший горнистом при Шарамовиче (Шарамович не отверг, что при нем был горнист), виденный конвойными с оружием на Лихановой и Мысовой, говорит, что у него, действительно, был рожок, кем-то ему данный, и что он на нем действительно раз сыграл отступление и бежал.
19. Писанко довольно прямо сознался, что был на Мантурихе, держал там лошадь и оружие. С Мантурихи бежал в тайгу и попал в шайку, где вожаком был Жилинский, а распорядителем Держановский. Когда есаул Попов уличал его в том, что он был с оружием, то возразил, что есаул Попов, арестованный в то время, не мог видеть, когда он держал лошадь и оружие Вронского.
20. Ярошевский значится в списке поручика Лаврентьева, явившимся в Мурино. Но конвойные уличают его в том, что в Утулике он поймал лошадь и напал с шайкой на солдат, что был перед Мишихой, что его видели в дворянской партии, в Мантурихе, на коне с шашкой; что под Лихановой он стрелял. Это противоречие объясняется тем, что г. Лаврентьев перечел только цифру бывших на-лицо, фамилии же ему говорил один политический преступник Янчевский. Ряд показаний, которые следят за Ярошевским до Лихановой, — говорил прокурор, — не оставляют ни малейшего сомнения в том, что он, действительно, участвовал в восстании и что в список он попал по ошибке.
Подсудимый говорил, что его могли смешать с Гужинским, но следственная комиссия не нашла в них ни малейшего сходства.
21–28. Крестьяне Яганов, Брудницкий, Бодарчук, Виктор Александрович, Мекеула, Кульшевский, Раценко и мещанин Вильчинский, несмотря на многие показания лиц, видевших их с оружием в передовом отряде, продолжали утверждать, что вышли по принуждению, боясь быть арестованными и повешенными; о начале восстания ничего не знали; кто были начальниками, большею частью, не помнят. 29. Тоже говорил и Керсновский, выходивший, по показаниям полковника Черняева, на вызов Шарамовича: «пане порушник 5-го полку». Один только 30. Вишневский сознался, что был с оружием, которое бросил, и ссылался на есаула Попова, который видел его утром 28-го без оружия, что г. Попов и подтвердил[44].
31. Наленч, двор., сознался, что был в передовом отряде и обвиняется в деятельном участии в мятеже. Подсудимый приводит в свое оправдание, что он явился в дворянскую партию, где скрывался, так как Шарамович хотел его повесить. Архитектор Дружинин и кондуктор уличали его в том, что он, арестуя их, был с оружием, на что подсудимый ответил кондуктору, что он потому уличает его, что до настоящего времени не отдал ему, Наленчу, 1 рубль, взятый взаймы. Поручик Лаврентьев говорит, что он не видал, был ли он с оружием или нет.
На 3-м заседании, 26-го октября, продолжали спрашивать подсудимых 2 категории. Публики, которой уже наскучило 2 заседания, не было; приходило несколько человек и уходило, посидев несколько времени.
Действительно следующие подсудимые 32–36. Вонсович, Жолондковский, Рохневич, Нежинский и Беньковский все показывали, что были по принуждению и оружия не имели, несмотря на все улики. 37. Прусский подданный Бушкат, бывший, по показаниям гг. Прашутинского, Дружинина, Просвирякова, Багринского и Черняева, жандармом-вешателем (они узнали его в толпе, несмотря на то, что он остриг волосы и сбрил бороду), — упорно отрицает это, говоря также, что не может защищаться иначе, как по-немецки (начальник над политическими преступниками майор Купенко уличал его, что он отлично говорит по-польски и объясняется по-русски). В оправдание Бушкат сослался на полковн. Шаца, который, действительно, говорит, что видел его, но не может сказать, был ли он жандармом-вешателем или нет.
38. Нидермаер, из дворян муринской партии, взятый в дворянской партии. Несколько рядовых показали под присягою, что видели его 28-го с оружием; другие видели его с ружьем, верхом на Мантурихе, откуда он уехал на Лиханову. Вронский показывает, что Нидермайер был на Лихановой и рассказывал ему, Вронскому, что Рейнер делал ему выговор за то, что он ушел в лес. Подсудимый показывает, что он был в лесу, где собирал насекомых и, выходя, увлечен был партией, затем на него надели оружие, которое он бросил и ушел в дворянскую партию. Поручик Керн позволил ему даже разыскивать раненых. В оправдание свое подсудимый приводит, что его положение известно, — в дела он никогда не вникал, жил особняком в балагане, вдали от других, в понедельник явился к г. Черняеву. Г. Черняев говорит, что не может его припомнить. Подсудимый кончает, что предоставляет суду, если можно, облегчить его участь, что он полагал, что полк. Черняев его помнит; если же нет, то других фактов не может привести.
39. Панковский, из дворян, сборщик податей при Шарамовиче, показал, что, действительно, участвовал в восстании, был на Мишихе, чтоб драться, но не имел оружия, потому что не хватило. Из дворянской партии пришел на Мишиху, а потому не знает, ездил ли Рейнер на Лиханову. Денег было собрано до 40 р., которые Шарамович роздал потом по рукам. Целинский был, кажется, с Шарамовичем, но никаких назначений не имел. Панковский был при том, когда приехали конные и спрашивали, кто начальник. Никто не объявил себя. Ильяшевич ответил: «Не ваше дело». Рейнер хотел собрать партию, чтобы совещаться, что делать, но партия не собралась. Тогда Панковский ушел к себе в балаган, а утром пошел в Мишиху. На спрос, кто ушел ночью и ездил ли Рейнер, подсудимый отвечал, что не знает: ждал только Шарамовича и пошел к Шарамовичу.
40. Также сознался и Мысловский, участвовавший в бою с поручиком Пороховым. Он говорит, что был в тайге и уходил уже после схватки на дороге, когда загородил ему дорогу наскочивший на него Порохов, слегка ранивший его в руку; тогда Мысловский ударил его своею саблею, кажется, по голове, — наверное не может сказать, — и удалился. Затем был в тайге с Шарамовичем и взят в его шайке. На дальнейшие расспросы Мысловский отвечал, что рассказал все, касающееся до него, а про других ничего не знает.
41–45. Фишер, Глинецкий, Маркус, Невера и Нюрка также отвергают свое участие, как и все остальные.
46–48. Тэль, Пшеполковский и Енджевский, бродяги, бежавшие из Читы, пристали к мятежу, как говорят они, по принуждению и взяты за гольцами. Прокурор по совокупности преступлений, зачислил их во 2 категорию. В оправдание свое они ничего не представили.
49. Спос, как раненый, был обвинен прокурором в участии в мятеже; но подсудимый сослался на полк. Черняева и других, которые знали, что он тот самый, нечаянно раненый, про которого упоминалось раньше. Они это подтвердили.
50. Блажиевский, бывший фельдшер при муринской партии, участвовал в мятеже и был в шайке Шарамовича. В оправдание свое приводил, что на повозке привезен до Мишихи; бежать не мог, так как боялся, а убежал уже из тайги, как только представилась возможность. Вовсе не хотел участвовать в мятеже, так как кроме своих книг ничего не знал и жил в балагане с одним стариком, который не принимал никакого участия в делах, и одним молодым человеком, который тоже постоянно читал. В подтверждение он сослался на полковника Черняева, но г. Черняев видел его только в воскресенье, 26-го, когда его арестовали, и он шел с Ильяшевичем, пославшим Блажиевского вперед распорядиться о самоваре, а затем во вторник, после лихановской стычки, Шарамович действительно подтвердил, что когда д-ра мишихинского лазарета отказались итти, он принудил итти фельдшера. В тайге ходил с несколькими поляками, боялся выйти, думая, что от русских солдат пощады не будет.
51. Вигановский, явившийся к есаулу Прашутинскому после дела под Быстрой, был за р. Мишихой, следовательно, под Быстрой, и держал вьючную лошадь. Из расспросов полк. Черняева и собственных показаний подсудимого обнаруживается, что Вигановский должен был быть в числе 70 человек, составлявших кавалерию Шарамовича. Заметив пароход, который вез русские войска, Шарамович отдал задней половине приказание вернуться к Мишихе, где на лодке сложена провизия и навьючить ею лошадей. Тогда они все вернулись и стали вьючить, складывая припасы за неимением сум в свое походное платье. Вигановский должен был быть в числе этих лиц; но затем он не пошел в тайгу, вернулся и сдался есаулу Прашутинскому.
52. Дзингалевский, бывший при арестовании полк. Черняева с ружьем, явился в Посольском. Никаких фактов в свое оправдание не привел.
53. Витковский, сужденный заочно, привел в свое оправдание, что из-за подозрения в принадлежности к тайным обществам он был отдан в солдаты. Там без правого глаза и без зубов он был предметом постоянных насмешек со стороны солдат. Это побудило его бежать. Так как это было в военное время, то за это он попал в Сибирь. Здесь он выдержал тифозную горячку, потом, через несколько времени, эпидемическую. Все это страшно его расстроило. Недостаток пищи, сырой климат, неполучение от родных писем, — все это привело его в отчаяние, и он пошел за авангардом. В настоящее восстание он лишился руки, и остается без правого глаза, без зубов, без руки и просит сострадания у судей. К той же категории причислены Дансовский, который не сужден по болезни, Зарембецкий и Радзивилович, умершие, и 27 человек, пропавшие без вести.
Приговор я сообщу по окончании суда над всеми.
6.
Иркутск, 3-го ноября 1866 года[45].
27-го октября начался суд над преступниками 3 категории, в числе 119 человек, и кончен 28-го. В эту категорию были зачислены преимущественно те, которые были взяты за гольцами; а то, что они были при оружии, не доказано положительно, так как имелось лишь одно присяжное показание, что при них было оружие.
Все это почти исключительно крестьяне, увлеченные в мятеж своими руководителями и по большей части почти не сознававшие, куда и зачем они идут.
После прочтения им приказа командующего войсками о назначении военно-судной комиссии, прокурор приступил к чтению обвинительного акта. Вкратце изложивши, так же как для второй категории, отличительные черты беспорядков, прокурор стал читать обвинение, касающееся собственно этой категории, приблизительно в следующих выражениях:
Если во 2 категорию вошли преступники, составлявшие самое гнездо мятежа, то преступники 3 категории были его проводниками. Отличительная черта этой категории — это отсутствие положительных указаний на то, что они участвовали вооруженными; но все они взяты по ту сторону гольцов, следовательно, продолжали упорствовать в своем противозаконном намерении до самой последней возможности. В массе есть такие, которые, действительно, просто хотели бежать, но для того, чтобы достигнуть этого, они сопротивлялись войскам. Принимая деятельное участие в мятеже и побеге за границу, они обязаны отвечать и за последствия своего преступления.
Наконец, покорно прошу суд обратить внимание на их запирательство, неискренность показаний, на желание затемнить все те обстоятельства, которые могли бы разъяснить дело и степень виновности главных зачинщиков и участников. Поэтому я обвиняю их в деятельном пособничестве бунту, соединенном с упорством в достижении предначертанной преступной цели. Частности обвинений против отдельных лиц были изложены особо при отдельных спросах. Некоторые из подсудимых этой категории обвинялись в том, что участвовали в мятеже с оружием. Все же вообще, — в участии вообще, и в том, что не отстали от мятежа раньше, в то время, как столько раз имели возможность бежать, как во время пути из своей партии до Мишихи, так и во время странствований по тайге.
Почти без исключения все подсудимые этой категории в своих объяснениях перед судом говорили, что раньше ничего не знали о предстоявшем побеге за границу, видели только, что дворяне что-то говорили между собою. Оправдания всех сводятся на одно: наехали люди неизвестно откуда и стали выгонять всех из балаганов, заставляя итти и грозя в противном случае загнать в Байкал и потопить или пустить пулю в лоб. Чтобы не разбежались, окружили их конными и гнали на Мишиху; весьма многие прибавляют еще тот вариант, что усадили на телегу и увезли. На Мишихе расставили цепь и, слышно, хотели перерезать тех, кто не захочет итти. У приехавших таким образом людей в числе 30–50 человек[46], было оружие. «Где же было нам сопротивляться, когда и конвойные не могли ничего сделать», прибавляли другие. Иные дополняли тем, что дошли до отчаяния; холодно, голодно, не думали, что будет хуже, и решились бежать за границу.
Некоторые из подсудимых говорят, что бежали с дороги, еще не доходя до Мишихи, и спрятались в тайгу. Но большинство говорят, что бежали, заслыша выстрелы или трубы горнистов, или же заслыша о приближении русских войск. На другой день, как говорили многие из подсудимых, они хотели выйти из леса на дорогу, но в них стреляли крестьяне, солдаты и казаки; другие же, узнавши это от скрывавшихся же в лесу, вернулись и потом присоединились к шайкам Шарамовича, Котковского, Держановского и другим, еще более мелким кучкам.
Замечу при этом, что во всех этих рассказах есть доля истины. Несомненно, как оказалось при суждении следующих категорий, что многие шли именно только в надежде убежать за границу, которую они считали очень близкою, вовсе не рассчитывая на вооруженное столкновение с войсками; что многие шли, действительно, по принуждению или увлеченные другими; что иные действительно хотели выйти из тайги, но в них стреляли, тогда они снова бросались в тайгу и сходились с другими, и присоединялись к шайкам. Но как все, за исключением 5–6 лиц, и в том числе даже такие, которые, несомненно, принимали деятельное участие, показали, что шли по принуждению; и весьма многие утверждали, что хотели вернуться, но не могли, то суд находился в весьма затруднительном положении — отделить действительно таких от тех, которые лгали. Таким образом, показания подобного рода, если они подкрепились фактами, не могли быть приняты судом, на основании соображения, что немыслимо, что 5, 6, наконец, 10 человек могли всех заставить итти за собою. Поэтому легко может случиться, что в число действительно виновных попадут в следующей категории, — может быть, и в этой, — люди, шедшие по принуждению или же по необходимости, вернувшиеся в тайгу и, наконец (таких должно быть не мало), шедшие по увлечению, слишком положившись на своих руководителей; последних особенно их должно быть не мало.
Во время расспросов суд старался выяснить положение некоторых сомнительных личностей, как, напр., Держановского, Сарнецкого (кузнеца), Керсновского, а также Целинского и друг. Но подсудимые по большей части не называли имен, уверяя, что не знали наехавших к ним людей, не знали о приготовлениях и т. п.; впрочем, двое показали, что Сарнецкий, действительно, приготовлял оружие; а 6, если не более, показали одни, что Держановский в тайге был хозяином (или старостою); другие, — что на нем была шашка на серебряной портупее и что он имел ружье, которое иногда передавал другим. Наконец, про Керсновского было показание, что он, действительно, был поручиком 5 полка.
Остальные говорили, что не помнят, в чьем были плутонге, в тайге же ходили без начальника, или выбирая такового по очереди на 3 дня.
Любопытно, наконец, следующее показание про Целинского; он обещал всех вывести за границу, — в Бухарию, по словам одного из подсудимых. «Пусть хоть один человек при мне останется, я с ним одним выйду за границу, — говорил некоторым Целинский, — и через 3 месяца будем уже в Париже». Одного из своих спутников Целинский принуждал быть адъютантом. «Я отвечал ему, — говорил подсудимый, — что не умею ни читать, ни писать; но он выставил меня на 6 часов на дождь и бил нагайкою». Когда спутники Целинского стали просить его поскорее вывести к жилью, а уже не за границу, то он отделил от себя 16 человек и говорил: «Идите, куда хотите», и не хотел даже сказать, куда итти. «Наконец, — говорили подсудимые, — выходя из гор, мы сдавались без боя; не то нас захватывали казаки или бурята. Все терпели недостаток в пище, сперва питались лошадьми, делая из кожи сумы для припасов, а потом чем попало». Фактических опровержений обвинения почти никто из подсудимых не представил.
7.
Иркутск, 10 ноября 1866 года.
На следующем 6-м заседании было приступлено к суду над политическими преступниками, отнесенными прокурором к 4 категории. Их было на лицо 76 человек. Все они, — говорил прокурор, — принимали более или менее деятельное участие в мятеже. Все они, из своих партий, были на Мишихе, некоторые даже на Быстрой. Следовательно, были не из последних деятелей. Видя, что замысел их не удается, или одумавшись, они являлись добровольно к нашим отрядам.
Сюда же причислены те, которые, хотя не принимали деятельного участия в мятеже, но принимали участие в подготовлении его и отстали только впоследствии. Далее я представлю, — говорил прокурор, — более или менее сильные обвинения при суждении каждого отдельного преступника. Вообще же скажу, что розыски, сделанные для того, чтобы найти более сильные доводы против отдельных лиц, остались тщетными.
Все они являлись к начальству без оружия, но, конечно, оно было у них брошено только впоследствии. Явка начальству есть только маневр с их стороны для того, чтобы скрыть свое преступление. Вследствие всего этого обвинение видит в них особенно опасных участников мятежа, которые ловкими маневрами успели только скрыть следы своего преступления. Поэтому означенные преступники обвиняются в энергическом пособничестве мятежу.
В эту категорию вошли все те, которые хотя и принимали участие, повидимому, вооруженное, но сдались, не уходя за гольцы.
В суде все они показывали то же, т.-е., что если и пошли за другими, то потому, что не могли сопротивляться пришедшей в Култук толпе, у которой было оружие. К тому же Вронский стращал, что пустит пулю в лоб тому, кто ослушается и не пойдет. Затем на Мишихе некоторые получили оружие, но бросили его и сдались добровольно либо майору Рику на Мантурихе, либо в Посольском, либо полковнику Черняеву, после схватки под Быстрой. Многие показывали, что были арестованы Шарамовичем, который запер около 30 человек в зимовье и поставил часовых. Конвойным не помогли оттого, что их балаганы были с края, и когда пришел передовой отряд, то он налетел так внезапно, что перевязал конвойных раньше, чем можно было оказать им какую-либо помощь.
Против некоторых из подсудимых этой категории было по одному показанию, что их видели с оружием. Весьма немногие сознались, что, действительно, имели сперва оружие, но потом бросили его; другие же отрицали это, приводя иногда довольно правдоподобные объяснения против улик Багринского, который указал на очень многих; иногда же подсудимый просто отрицал факт, говоря, что имел просто дубину или палку, чтобы опираться на нее во время дороги. Затем, действительно, были некоторые, доказывавшие свое неучастие в мятеже тем, что являлись м. Рику в то время, когда он пришел на Мантуриху и ночевал вблизи Лихановой, следовательно, раньше схватки под Быстрой.
Во время расспросов, судьи старались узнать что-нибудь про начало восстания, но ответ был везде один и тот же, что раньше ничего не знали, хотя в этом же заседании оказалось, что как в Иркутске, так и в Култуке, были постоянные происки о назначении Шарамовича старостою. Действительно, одно время он был старостою, но его строгие правила (о которых он упоминал в своей записке) не понравились, и он должен был отказаться от своей должности. Но других указаний не удалось получить никаких. Также мало успешно было старание узнать, за что был смещен Рейнер; ото всех получился только один ответ, что он был болен, — зубы болели, или же, что выбрали другого старосту, оттого что Рейнер был увезен передовым отрядом на Лиханово.
На 8-м заседании была суждена 5 партия, которую прокурор обвинял следующим образом. Главным образом, — говорил он, — обвинение относится к так называемой мантурихинской партии. Сперва она жила в Култуке, откуда, как известно, был подан первый сигнал к движению. В Култуке делались сборы и подготовлялось оружие; все это не было тайной и не могло оставаться скрытым. Сама она перешла за Байкал, в Мантуриху, добровольно; ясно, что был отряд надежных людей, который должен был взять Посольское, на что встречаются даже некоторые указания. Если главные виновники восстания возлагали это на мантурихинскую партию, то, конечно, люди, ее составлявшие, должны были быть подготовлены; и если теперь эта партия (30 чел.) отнесена к 5 категории, то только потому, что против нее нет достаточного числа фактических данных. Вообще, все подсудимые этой категории более или менее знали о предстоявшем движении. В оправдание они ссылаются на неожиданность нападения; это неправда; они знали и не могли не знать о подготовлявшемся преступлении, особенно же мантурихинская партия, которой назначение было подготовлять умы других забайкальских партий. Если муринская партия может еще ссылаться на принуждение, так как она имела дело с тремя култукскими партиями, то этого нельзя сказать о мантурихинской, имевшей дело с передовым отрядом. Эта партия была уважительная масса, которую не мог бы принудить итти отряд в 30 человек. Эта партия предполагала итти к Мишихе и затем отстала от мятежа, только заслыша о приближении войска; следовательно, была вынуждена отстать от задуманного преступления только силою внешних обстоятельств. К нашим отрядам вышла эта партия только вследствие успешности действий наших войск. В случае же неудачи 200 сомнительных преступников готовы были двинуться на помощь другим. К 5 категории вообще отнесены преступники, действия которых наиболее подозрительны, тем более, что все они двигались с своих мест и в них должна была быть главная сила мятежа.
Отдельные обвинения приводились порознь для каждого подсудимого. Прежде всего был осужден один политический преступник Ауштадт, на которого падало подозрение в том, что он знал о подготовлениях к мятежу и принимал участие в совещаниях о нем. Он ездил, — говорил прокурор, — с Шарамовичем в култукский лазарет, не будучи болен; там, при тесноте помещения, он не мог не слышать происходивших разговоров; находясь же с Шарамовичем в хороших отношениях, даже должен был принимать в них участие. Против этого обвинения подсудимый приводил то, что оно основывается не на фактах, а на подозрениях; что, ездивши в лазарет, был действительно болен, так как во время сильного дождя в Муриной пробыл целую ночь в балагане, куда заливалась вода, и, не имея на себе сухой нитки, сушился потом целую ночь у огня, что видели конвойные; после этого заболел и был отправлен поручиком Лаврентьевым в лазарет, где был, действительно болен, что могут подтвердить смотритель лазарета и доктор. Шарамович же ему ничего не говорил. Возвращался назад с Шарамовичем, в Мурино, случайно, по неимению другой подводы.
Затем были призваны к суду 2 крестьянина култукской партии, укравшие у смотрителя станции дробовик, незадолго до мятежа. Это обстоятельство, как показывали некоторые, послужило к ускорению начала мятежа. Действительно, 13 июня, в отсутствие смотрителя, два пьяных крестьянина забрались к нему дом и, на виду остававшейся дома девочки, сняли со стены дробовик и бежали в лес. Один из них попался навстречу смотрителю, который погнался за ним. Тогда бежавший прицелился в смотрителя, но спустил курок у незаряженного ствола. Партия постаралась скрыть это обстоятельство, обещая расправиться с виновным своим судом. В оправдание свое обвиняемые показали, что были пьяны и не помнили, что делали, но председатель и прокурор указали им на то, что один из них помнит, что курка не спускал и что они бежали, следовательно, не были уж так пьяны. Хотя суд и старался дознать, кто подучивал их к этому, но ничего не удалось узнать.
Мантурихинская партия приводила в свое оправдание, что еще заранее 30 человек (3 балагана) заявляли есаулу Попову, что готовится мятеж и что они не желают принимать в нем участие, за что товарищи хотят их перерезать. (Неудовольствие между этими двумя партиями началось еще раньше, когда десятник первого из балаганов, бывший артельщиком, не хотел выдать другому провизии на 13 человек, вместо 10, хотя тот и говорил ему, что у него в балагане 3 бродяги.) Это обстоятельство, — говорила партия, — заставило ее целую ночь пробыть без сна, и посылать патрули; г. Черняеву, заставшему их в таком положении, они объявили только, что боятся бродяг; есаула же Попова просили перевести их в другое место. Г. Попов отвечал, — говорили подсудимые, — что все это пустяки, но что во избежание неудовольствия их перевезут туда, где товарищи и не найдут их. Г. Попов отверг это показание, говоря, что поляки говорили ему, что неудовольствия произошли потому, что часть не хотела жаловаться на то, что дают дурное мясо. Затем, в оправдание своего ухода из партии 26-го июня, все ссылались на принуждение, которого не мог избежать и г. Попов; в доказательство же своего неучастия в мятеже обвиняемые приводили, что бежали с дороги, не доходя до Мишихи. Г. Попов подтверждает, что, действительно, передовой отряд, возвращаясь из Лихановой, выгонял всех из балаганов и гнал в Мишиху. К этому некоторые прибавляли, что г. Попов сам видел, что они шли неохотно, когда разговаривали с ним, за чаем и т. д. Пастух, пасший скот для политических преступников, отлучился с места, так как Шарамович приказал ему гнать скот в тайгу, что он сделал, но ушел в другую сторону и, пробыв в тайге 4 дня, вернулся и явился к русским, по уходе мятежников. Некоторые ссылались на показания конвойных, которые говорили, что такого-то видели шедшим с мятежниками, но без оружия. Другие же, наконец, говорили, что во время пальбы под Быстрой сидели за кустами и смотрели, а когда все кончилось, пришли и явились полковнику Черняеву.
В эту же категорию попало несколько человек, явившихся в Посольск, следовательно, по всем вероятиям, бывших под Лихановой. В свое оправдание они говорили, что заблудились в тайге, куда бежали при приближении вооруженных поляков. Наконец, сюда же были отнесены 7 человек из тех, которые были взяты отрядом войскового старшины Лисовского. Тут произошло следующее: с самого начала восстания 9 человек из находившихся на 8 версте от Мишихи в Култуку, заявили свое нежелание принимать участие в мятеже. Потом, хотя они и тронулись с места, но тут же скрылись в тайгу; там же, сойдясь в числе девяти человек, вернулись к своим балаганам, где и остались с 3 казаками. Во вторник, во время самой перестрелки, проходил мимо их балагана полковник Шац и разговаривал с ними; они просили его взять их с собою на лодку, но г. Шац отказал, так как у них не было провизии; посоветовал завтра послать на Мишиху за припасами и оставаться в шалаше. То же подтвердил архитектор Дружинин. Г. Черняев сам дал им конвойных, с которыми они и жили до субботы 2-го июля. Раньше еще стычки под Быстрой, они хотели в лодке ехать в Лиственичную, но казаки отговорили их, так как пускаться в лодке было небезопасно. Начиная со среды, они ходили на Мишиху, за провизией, и г. Прашутинский поручил им сзывать к себе всех, кого завидят шатающимся в тайге, что они и делали, так что к ним присоединился в среду один, Ционбайло, и еще двое в четверг. Конвойные, находившиеся при подсудимых, показали под присягою, что у них не было оружия, а были только топоры. В субботу все уже легли спать, в одном только балагане был огонь, у которого шил один из этих людей. Перед балаганом был разложен костер, балаганы же были извнутри заперты, завязаны веревками (все это подтверждают конвойные), когда вдруг подъехал к этим балаганам войсковой старшина Лисовский с казачьим отрядом и бурятами. В своем донесении он говорит, что около 2-го часу авангард заметил огонь и у огня людей; подошли и окликнули; ответ был: «поляки». «Сдайтесь». Но вместо этого люди заперлись в балагане; урядник бросился к балагану, повторяя «сдайтесь», но вместо ответа ударили топором по ружью. Казак проколол одного из поляков штыком, урядник Пермяков ранил других; в балагане увидел одного убитого и 1 раненого, 2 бежали, оружия не найдено. Урядник показал то же, с тем однако, что г. Лисовский сам несколько раз выстрелил во внутрь балагана и убил одного, другого же ранил.
В своих оправданиях подсудимые сослались на г.г. Щаца, Дружинина, Черняева, Прашутинского и казаков, которые все подтвердили их показания. Казаки конвойные присягнули, что люди, за исключением четырех, ушедших за провизией, находились в балаганах, а не у огня. Как подсудимые, так и казаки показывают, что спали, когда налетел отряд г. Лисовского, о котором узнали потому, — говорили казаки, — что стали стрелять; другие же прибавляли, что выходили нагие по требованию Лисовского, либо что г. Лисовский, приставив пистолет к груди, разговаривал с ними; затем одного повалил и выстрелил ему в спину, других же бил и таскал за волосы, несмотря на уверения конвойных, что все тут находящиеся не принимали участия в мятеже. После этого в. ст. Лисовский связал их и угнал в Мишиху, при чем один, вышедший с папироской в зубах, подвергся тем же побоям, как и остальные. Один только, Ционбайло, убежал и был пойман впоследствии.
Прокурор заключил, что он основывает свое обвинение исключительно на донесении в. ст. Лисовского.
Суд долго спрашивал подсудимых порознь, равно и конвойных полк. Черняева и др., и, наконец, пришел к убеждению в их невиновности, за исключением отст. матроса Ционбайло, который явился после дела под Мишихой, вероятно, сидел у огня, наделал суматоху и затем бежал.
На 9 и 10 заседаниях были суждены подсудимые 6 категории, разделенные на 2 половины. Эта категория состояла преимущественно (3/4) из дворян муринской и мишихинской партии. Прокурор обвинял муринскую партию в том, что, имея среди себя Шарамовича, она не могла не знать о предстоящем движении, и вместо того, чтобы принять какие-либо меры и отговаривать крестьян, вместо того, чтобы, наконец, остановить толпу крестьян, сама разбежалась в лес и тем очистила дорогу мятежникам. Дворяне подготовляли мятеж, все руководители дворяне, а потом, увидя недостаточность средств, они сами отказались и остались в стороне. Между тем, убежавши в лес, муринская партия дала возможность передовому отряду перевязать конвойных и беспрепятственно пройти дальше. Самое отступничество их, — говорил прокурор, — имеет все признаки положительного преступления, потому что люди этой категории участвовали в злоумышлении и содействовали ему нравственно. Поэтому прокурор признал их попустителями и укрывателями преступления, именуемого бунтом.
Прилагая те же общие соображения к мишихинской дворянской партии, прокурор говорил: как согласить их участие в подготовлении к восстанию (отрицать которое немыслимо, имея в виду их влияние, наконец, то, что из среды их вышел Целинский), как согласить это с ролью, принятою ими в мятеже? Они самоуверенно остаются на месте и потом выходят навстречу войску. Между тем, все надежды возлагались агитаторами на дворянскую партию, — все шли к Мишихе; Шарамович был так уверен в их участии, что давал инструкции передовому отряду только до Мишихи. Но в Мишихе ждало Шарамовича разочарование еще худшее, чем то, которое он, по его собственным словам, встретил в Мурине; и если простолюдины оказались его орудием, то сам он оказался орудием в руках дворян. Ввиду фактов, прокурор находит, что стойкость дворянской партии, с первого раза кажущаяся похвальною, — не более, как маневр. Дворянская партия должна была стать во главе движения, но доказано положительно, что мятеж сделан несвоевременно, без достаточных средств, и только потому, что во главе его стали не те люди, которым предназначалось стать. С получением известий о приходе войск, убедившись, что им предстоит неравный бой, а затем неприятное движение тайгой, дворяне решили с покорностью выйти навстречу войска. Но и это движение, — продолжал прокурор, — не более, как стратегическая уловка. Оставаясь между войском и мятежниками, они должны были необходимо принять участие, тогда как, становясь в тылу войск, они избрали стратегическое положение, чтобы начать действие в случае неудачи наших солдат. Это подтверждается их дальнейшими действиями. Они ходят в лес собирать убитых, передавая мятежникам известия с дороги, а может быть, и пищу; действительно, мятежники до тех пор держались в тайге, не переставая тревожить наших солдат, пока дворянская партия не была снята с дороги. Таким образом, эти 70 человек все делали, чтобы обеспечить успех мятежа, не компрометируя себя: они знали о нем и не донесли, не принимали никаких мер, чтобы предотвратить его, не действовали на массу, не оказали материального содействия нашему конвою, дозволяли обезоружить конвой, — а потому должны быть сочтены «попустителями преступления, именуемого бунтом».
Оправдания подсудимых сводятся на следующее: 1) обвинение прокурора не основано на фактах; факты, напротив, за подсудимых; остались на месте, за что потерпели упреки, насмешки даже, в одном случае побои; знали недостаточность средств и не делали никаких приготовлений, не запасали даже обуви; некоторые убежали в тайгу, но вскоре вернулись; 2) не сочувствовали восстанию, а даже уговаривали других не принимать участия и собрали около себя 80 человек; понимали очень хорошо, что если правительство выселило их из Польши ради политических целей, то не захочет оставить здесь так, а даст возможность завести хозяйство и приложить силы в краю невозделанном и нуждающемся в рабочих руках. Некоторые показали, что посылали заявить полк. Черняеву о своем желании не участвовать в мятеже, чрез Сурина и д-ра Красицкого. Г. Черняев подтвердил, что Сурин приходил и говорил, что многие не желают участвовать, но от своего имени, а не от имени партии; то же и д-р Красицкий, от которого полковн. Черняев впервые узнал, что большая часть дворянской партии намерена не принимать участия; 3) раньше ничего не знали, давали даже г. Черняеву денег на покупку вещей; если же было что-нибудь, то это не укрылось бы при характере польской нации; 4) конвойным не помогли оттого, что все сделалось внезапно и конвойные были в первом балагане от Мишихи; за то был потом случай, что заступились за конвойных, позвали их в балаган и поручились, что волос не спадет с их головы; 5) если некоторые тронулись, то вследствие насилия, в подтверждение же последнего обвиняемые объявили, что с них, по приказанию Шарамовича, снимали сапоги (Шарамович подтвердил); 6) относительно стратегического положения, принятого партией, подсудимые приводили в оправдание, что в то время, когда в отряде м. Рика трубили отступление, поручик Керн спрашивал, что они будут делать, и получил ответ, что все пойдут за ним. При этом конвойных было всего 19 на 200 человек и, тем не менее, слыша крики отчаяния своих товарищей, никто из нас, — говорили подсудимые, — не тронулся с места. Следовательно, положение партии в тылу войск не могло быть стратегической уловкой; 7) убирать раненых ходили по приказанию г. Керна с конвойными; следовательно не могли иметь сношений с бродившими по лесу[47], и 8) пищи не могли носить, ибо у самих было мало.
На дальнейшие расспросы судей подсудимые отвечали, что сколько ушло — не знают; что Рейнера сменили, ибо передовой отряд увез его силой, надеясь, что партия пойдет за своим старостою; другие же говорили, что Рейнера сменили по болезни. За Целинским подозревали что-то и даже присматривали.
Муринская партия приводила в свое оправдание почти то же самое, и суд оправдал эту 6 категорию, за исключением двух человек.
На 11 заседании были, наконец, суждены подсудимые 7 категории. К этой категории прокурор отнес преступников разных партий, которые отказались идти за мятежниками, за что и были арестованы ими, а также те, которые были больны, в лазарете или же просто остались на местах.
Они обвиняются, — говорил прокурор, — в том, что, при громадности преступления, не могли не знать о нем, а между тем не предупредили о нем начальства. Из сего изъемлются лишь преступники, бывшие в Сухом Ручье, которые могли не знать об этом, ибо только что пришли из Петровского завода. Кроме того, подсудимые 7 категории обвиняются в том, что не оказали серьезного сопротивления своим товарищам.
В оправдание свое подсудимые отвечали, что ничего не знали о подготовлявшемся и никогда не сочувствовали подобному мятежу, что даже оказывали ему сопротивление. Но что серьезного противодействия не оказали лишь потому, что были без оружия в то время, как прочие были вооружены.
Наконец, на 12 заседании было решено дело о вышеупомянутых 7 человеках, захваченных в. ст. Лисовским, при чем эти люди были окончательно оправданы, за исключением одного, оставшегося в сильном подозрении. Да, кроме того, были суждены некоторые преступники, не спрошенные раньше за болезнью; наконец, был опять призываем Вронский.
Из показаний Вронского обнаружилось очень мало существенного. Искусно выгораживая себя, он постоянно повторял, что ничего не знал о подготовлявшемся бунте; что Квятковский и Ильяшевич ничего не говорили ему; но он, Вронский, заметил только, что подготовлялось что-то; знал о том, что многие не желают участвовать и что даже как-то раз ночью спорившие полезли-было на ножи; впрочем, ему удалось узнать, что существует деятельная организация, но не верил, чтобы ей удалось сделать что-либо, так как знал, что крестьяне в прошлом году, напр., так старательно работали на дороге около Посольска; Вронский убедился, что действительно подготовляется что-то только тогда, когда увидел, что Шарамович и Ильяшевич совещались о чем-то после порчи телеграфа, бывшей незадолго до 26 июня. Муринская партия не участвовала в беспорядках, желая быть самостоятельной, а мишихинская не знала, что делать, и все ждала Шарамовича. Затем Вронский продолжал уверять, что не был на Лихановой, а, не доехавши 5 верст, остановился у балаганов, откуда в бинокль увидел войска, или же вернее показалось, что увидел войска, так как бинокль был плох, и вернулся сказать об этом Шарамовичу. Далее, забывая свое прежнее показание, что он отказался быть адъютантом при Шарамовиче[48], а шел простым солдатом, Вронский говорил, что во время дела под Быстрой находился при Шарамовиче, и, по его поручению, ездил узнавать, где находится Целинский, но, не найдя его, вернулся к Шарамовичу и сделал предположение, что Целинский вернулся за Быструю, — что могло согласоваться с его предположением итти в Монголию, в Ургу. Шарамович этому не поверил. Карабин Вронский получил от слесаря, который будто бы сделал его сам (?) в Лиственичной, для охоты за козами, утками и т. п.
После Вронского были еще суждены 5 человек больных из разных категорий, и тем комиссия заключила свои действия.
П. Кропоткин.
Примечания
1
Статьи и воспоминания, напечатанные в однодневной газете, а также и не вошедший оставшийся материал, будут воспроизведены в следующем сборнике памяти П. А-ча.
2
Пропуск в оригинале — прим. верстальщика.
3
Тоже.
4
Пропуск в оригинале.
5
Выпущено имя по неясности в оригинале.
6
Напечатано согласно с оригиналом: повидимому, большой пропуск.
7
Для нужд подведомственных ему розыскных органов департамент полиции составлял так называемые «справки» — краткие сводки сведений о разыскиваемых революционных деятелях и рассылал их с приложением фотографических карточек. Справка о Кропоткине составлена в 1909 г. — Ред.
8
Как видно из послужного списка, Кропоткин, как есаул, получал в год жалованья 360 р. и столовых 294 рубля.
9
Имение в Тамбовской губернии было оставлено отцом П. А. Кропоткину. Но в «полном послужном списке», выданном ему на военной службе, равно как в аттестате, отмечено, что «за ним и за родителями не состоит недвижимое имущество».
10
Кропоткин, «Записки революционера», Изд. «Знание», Спб. 1906, стр. 327.
11
При обсуждении вопроса в комитете министров, ген. Потапов представил более точные, «извлеченные из дел III отделения сведения о числе и общественном положении привлеченных к дознанию о противоправительственной пропаганде в разных местностях империи лиц. Общее число таковых лиц составляет ныне к марту 1875 г. 1637, из коих арестовано 412. По сословиям и по месту воспитания число это распределяется следующим образом (первая цифра обозначает число арестованных, вторая — привлеченных): студентов технологического института 17–36; медико-хирургической академии 26–51; С.-Петербургского университета 13–28; Московского 5–11; Киевского 2–17; Харьковского 4–10; Казанского 3–9; Новороссийского 5–2; Ярославского лицея —8; харьковского ветеринарного института 13–7; казанского ветеринарного института 1—; Петровской академии 15–12; земледельческого института — 7; института инженеров путей сообщения 2–2; студентов горного института —3; гимназистов 29–57; семинаристов 29–83; воспитанников низших учебных заведений 6–11; дворян 22–42; чиновников 26–89; учителей 19–67; военных (отставных) 15–39; купцов 3–17; мещан 16–60; крестьян 26–116; евреев 1–7; разночинцев 30–237; женщин: привилегированных сословий 78–187; непривилегированных сословий 6–10».
12
Существенная часть этого письма, опубликованного в заграничной русской печати, сводится к следующему. Отметив широкое распространение пропаганды, министр принужден признать, что одна судебная борьба с ней не может достичь цели, так как «пагубные учения не встречают часто в самом обществе достаточно сильного и энергического порицания. Преследовать можно только положительный факт нарушения закона, но не легкомысленное одобрение того или другого явления, ни молчание» ввиду того, что эти проявления не принадлежат «к области той деятельности, которая указана законом органам правительства, охраняющим основы общественного строя. Между тем в настоящее время мы довольно часто встречаемся с весьма странным явлением: люди, от которых, по всем условиям общественного и официального положения, нельзя ожидать не только участия в коммунистической и революционной деятельности, но даже и сочувствия к ней, остаются равнодушными зрителями развивающегося зла и даже нередко считают как бы своей обязанностью порицать правительство за меры, принимаемые против демагогических стремлений».
Резко критикуя подобный образ действий, министр считает, необходимым, чтобы «еще во-время все благомыслящие элементы общества соединились с тем, чтобы не только в официальной деятельности, но и в сфере частной жизни противодействовать влиянию и распространению этих вредных и разрушительных начал. При том со стороны всех честных людей порицание этих начал должно быть высказано решительно и громко, и в этом должна выразиться действительная самостоятельность благоразумного человека».
13
Записка гр. Палена напечатана в «Былом» IX, 1907 г.
14
Е. Г. А. Ф., I секция, I отделение. Дела комитета министров. Особый журнал комитета министров 18 и 26 марта 1875 года и приложения к нему. — № 3772.
15
Приводим эту справку ввиду ее интереса и значительности в истории революционного движения некоторых упоминаемых в ней лиц: «Список лицам артиллерийского ведомства, прикосновенным к делу о противо-правительственной пропаганде в народе: 1. Топорков Лев, отставной поручик. 2. Рогачев Дмитрий, отставной поручик. 3. Воронков Михаил, отставной подпоручик. 4. Шишко Леонид, отставной поручик. 5. Кравчинский Сергей, отставной поручик. 6. Павленков, Флорентий, отставной поручик. 7. Ярцев Александр, отставной поручик. 8 и 9. Усачев Владимир и Аитов Давид, бывшие воспитанники Михайловского артиллерийского училища. 10 и 11. Нефедов Михаил и Теплов Николай, бывшие юнкера Михайловского артиллерийского училища. 12. Клюев Сергей, канонир. 13. Емельянов Егор, поручик, служивший на патронном заводе».
16
Несколько лет тому назад я ходила смотреть эту местность; ее узнать нельзя: нет ни бывших переулков, ни деревянного домика, пустыри застроены, всюду широкие улицы и большие каменные дома.
17
В своей статье «Записки революционера» Кропоткин упоминает о «серенькой даче». Может быть, и ему пришла мысль, что хорошо было бы занять ее, но, во всяком случае, мы обсуждали вопрос о найме этого дома до получения его указаний; и, насколько мне помнится, сообщили ему, что знаки будут подаваться из дома — музыкой.
18
Брат П. А. Кропоткина Александр проживал в Сибири в ссылке. В 1884 г. он застрелился в Томске.
19
Е. Г. А. Ф. VII секция. Архив III отделения. «№ 144, часть 135. Дело 3-го отделения собственной его императорского величества канцелярии. Экспедиции 3-й. О распространении молодыми людьми книг социально-революционного содержания и о пропаганде их в народе. О бегстве князя Петра Крапоткина из Николаевского военного госпиталя. Начато 20 мая 1874/6 года. Кончено 29 февраля 1880 года. На. 196 листах». Количество листов обозначено неверно, так как подсчет сделан лишь за время производства дела III отделением. Департамент полиции продолжал дело и всего в нем листов 214. Дата окончания также неверна; окончено дело 31 августа 1881 г. Последний документ — рапорт саратовского прокурора — не датирован.
20
По — русски была издана в 1906 г. товарищ. «Знание», но была вскоре по выходе арестована царским правительством. В 1907 г. вышла в издании Орехова СПб. в сокращенном виде, при чем фамилия автора была заменена инициалами — «П. Кр — ин».
21
Настоящая статья принадлежит тов. Э. А. Гольдман, видной деятельнице и единомышленнице П. А. Кропоткина. Перевод с английского рукописного подлинника сделан Е. А. Серебрековой. — Ред.
22
Поляки-повстанцы 1863 года в Иркутске размещены были в здании, которое в настоящее время занимает казенная палата, на Преображенской улице. — Л. О.
23
Заведывавшего политическими преступниками на Кругобайкальской дороге.
24
Строитель дороги.
25
Сюда не внесены все расходы по Забайкальской области.
26
Полякам были сокращены сроки работ наполовину; те же, которые сосланы в каторжные работы на 6 лет и менее, — освобождались и выходили на поселение.
27
Все это было ложь. Впоследствии оказалось, что Целинский холостой.
28
Вообще, говорит г. Черняев, весь разговор производил на меня такое впечатление, что Целинский действительно идет по принуждению. Этому способствовали лета Целинского, рассказ его о семье и т. п.
29
Впоследствии оказалось, что это нечаянно раненый самими поляками.
30
Деревня возле Читы.
31
Поляки полагали, что на Мишихе есть оружие, зарытое в песке над потолком.
32
Показание это, как говорят, несколько сомнительно, потому что Багринский не получил будто бы расписки. Между тем, когда есаул Прашутинский объявил, что при обыске у него похитили 17 руб., то приказано было разыскать, но всю партию обыскали и, не найдя, решили, что, верно, укравший, боясь казни, бросил их в воду.
33
Дорога идет вдоль берега.
34
Один из слухов, распространенных поляками.
35
При нем была карта Сибири.
36
Говорят, он закопал его в землю.
37
Если не ошибаемся, сначала разнесся слух, что Квятковский убит, потому, вероятно, его и выдавал Шарамович.
В этом письме содержится окончание отчета о 1-м заседании полевого военного суда, учрежденного в Иркутске по поводу беспорядков на Кругобайкальской дороге. Этим кончается суд над преступниками 1-й категории. В следующем письме о суде над преступниками 2-й категории будут приводиться оправдания преступников только в тех случаях, где они говорили что-нибудь разъясняющее обстоятельства дела, или когда личности почему-нибудь выдавались из толпы. Суд каждый день продолжает свои заседания. В субботу, 29-го, приступили к суду над преступниками 4-й категории, которые принимали участие в мятеже, но остались потом на дороге и не бросились в горы. Таких 79 человек (3-й категории было 118, второй 54 плюс 29 пропавших без вести). Эти заседания представляют мало интересного, — и залы, где происходит суд, совершенно пусты, — является с десяток посетителей и те только на полчасика, на часок.
38
30 октября не было заседания суда, да и заседание 29 октября не состоялось, так как, получивши телеграмму от государя императора о бракосочетании государя наследника, генерал-губернатор приказал отложить заседание суда, чтобы члены комиссии, свидетели и обязательно-присутствующие (управление политическими преступниками) могли быть на молебствии. (Примечание, очевидно, П. А. Кропоткина. Ред.)
39
С Арцимовичем случилось следующее: все показали, что к восстанию принуждал их Квятковский; этот Квятковский (Ян) убит, говорили все. Перед следственною же комиссиею явился Арцимович. Но этот Арцимович сам сознался, что он был этот самый Квятковский, так как в Иркутске обменялся фамилией.
40
Ильяшевич был ранен, у него сделался антонов огонь, он говорит с трудом.
41
Загадочная личность, положение которой не удалось выяснить. Это беглый, который, повидимому, принимал деятельное участие в подготовлении восстания.
42
Большая часть из них накануне сбрила бороды и подстригла волосы.
43
При последующих спросах многие подтвердили, что Сарнецкий занимался приготовлением оружия.
44
Стычка под Быстрой была 28-го в 8-м часу вечера.
45
Мы получили эту статью при следующем письме: «Посылаю четвертое письмо о военном полевом суде в Иркутске. Оно заключает в себе изложение суда над политическими преступниками, отнесенными к 3 категории. О 4 и 5 категории я напишу в следующем письме. Вчера и сегодня судили 6-ую категорию, т.-е. которые не приняли решительно никакого участия, но которых прокурор обвинял в том, что они знали о предстоявшем и, выходя все навстречу нашему отряду, предпринимали только стратегический маневр. Эти подсудимые были большею частью из людей образованных и начитанных, знакомых с судебною процедурою. Завтра переспросят всех остальных, составляющих 7 категорию. 7-го ноября состоится окончательный приговор». (Примечание редакции «Биржевых Ведомостей»).
46
Другие говорили, что не помнят, сколько их было и кто именно.
47
В тайге нашли одного повешанного, Ивановского.
48
Народная молва говорит, что он был начальником штаба, что вероятно, так как он слушал в Генуе лекции Мерославского.
Источник
онлайн библиотека E-reading
http://www.e-reading.club/bookreader.php/1054601/Pamyati_Petra_Alekseevicha_Kropotkina.html